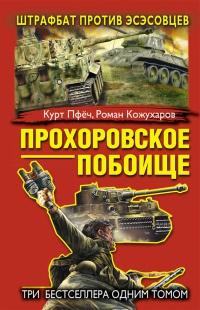Книга Добровольцем в штрафбат. Бесова душа - Евгений Шишкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Чего с тобой? Закоченел совсем, что ли?
Федор поднялся, подошел к бедолаге, тронул его за плечо. После Федорова касания сокамерник резко вздрогнул, дернулся всем телом, и всего его проняло истеричной трясучкой. Федор удивленно поморщился. Рванул его за плечо, чтобы заглянуть в лицо. И тут же остолбенел:
— Ляма?
— Чиво, чиво тибе надо?
— Ляма! — повторил Федор. — Вот и встретились, падла!
Больше всего Ляма боялся окрика и удара сзади. Еще малолетком-детдомовцем он весь сжимался и дрожал, когда воспитатель выстраивал своих питомцев лицом к стене по пояс раздетыми и поучал хлесткими ударами сырого полотенца. Никто не знал, кому и с какой силой вмажет воспитатель обжигающим при шлепке полотенцем, проходя вдоль обернутой к стене полураздетой шеренги. Этот страх навсегда вник не только в сознание Лямы, но и в само тело, в лопатки, в затылок Он и теперь дрожал от этого животного страха, когда его тронули сзади за плечо, когда он услышал и узнал голос «фраера», с которого снял сапоги на пересылке.
— Я же тебя, погань… — У Федора более не нашлось слов. Он оскалился, замахнулся на Ляму, хотел было врезать кулаком в рожу. Но остановился. В последний момент разглядел лицо Лямы — темные кровоподтеки, распухший рот, синяк под глазом. Пощадил физиономию, опустил руку. Пнул Ляму ногой в бок. Раз, другой. Ожесточаясь, пнул бы и третий, и пятый. Но Ляма заметался, завыл, вжался в угол.
— Не бей миня, не бей! Мине и так почки нарушили, — задыхаясь, завопил Ляма, неловко заслоняясь от ударов. Потом как-то враз весь обессилел, будто сдох, — видать, и впрямь ему было худо. Повалился на опилки и замер. Чуть позже тело Лямы содрогнулось, и послышался плач.
Федор стоял в растерянности над заклятым недругом. После этапа лагерная разнарядка кинула их по разным местам, и до сей поры они еще не встречались. Но месть на поборщика Федор держал незыблемо. Иной раз придумывал для него изуверские наказания: не позабылась ночь в конюшне, когда Ляма проминал ему кишки, когда плясал вонючей подошвой на лице. «Погоди, падла!» — сквозь зубы цедил Федор, вспоминая шкодливый голос Лямы, его стальную фиксу, нескладное длинное тулово и походку враскачку. Теперь вот он, Ляма. Перед ним. Хнычет жалостливо и сопливо, как побитый пацан. Задуши его — и баста! Кто будет разбирать, почему загнулся больной зэк в карцере? Тут здоровый окочурится в два счета. Но ненависть в Федоре испепелилась.
Он присел на корточки возле Лямы:
— Чего ревешь? Чего с тобой сделалось? Как тебя сюда угораздило?
— Родителев у миня нету, — услышал Федор всхлипывающий голос Лямы.
— Ты об чем? — обескураженно спросил Федор. Казалось, он чего-то недослышал. — Кого у тебя нету?
— Родителев… Сирота я…
Трудно было понять, вразумленно ли говорит Ляма, загнанный, как подранок, в угол коварной западни, или шепчет полубредово что-то не по пути. Голос его был все же искренен и раскаянно горек. Словно бы все прожитые годы, заляпанные воровством, скитальчеством и тюрьмою, уместились в одно простое и неожиданное объяснение, которое стонотно и слезно прошептал он опухшими губами: «Родителев у миня нету…»
Шел Ляма из неведомого роду-племени. Отец-мать не дали ему ни имени, ни фамилии, ни отчества. Подкидыш. В свое время нашли его близ приютского крыльца плачущим лохмотным кульком. Из детдомовских пристанищ он сбегал, беспризорничал, с голоду выучился воровать. И вот вроде бы окреп на воровском поприще, да случись перебоинка. Хитромудрый опер (тутошний следователь) взял на пушку молодого блатняка, вынудил проговориться и по нечаянности заложить другана из воровской шайки. На зоне среди блатных о Ляме прошел дурной слух. Чтоб не получить от главаря нож в спину, чего Ляма боялся смертным страхом, ему оставалось два пути: переметнуться в услужение лагерной администрации — на блатном говоре «ссучиться» — или спасаться побегом. Он выбрал второе. Но побег обдумал скверно, глупо попался, был до полусмерти бит и сбагрен в карцер.
— Не стони! И без того тошно, — сказал Федор без злобы и даже ободрил Ляму: — Выберешься отсюда, фраеров еще погоняешь. Натура-то в тебе все равно поганая…
Волоком, как мешок, Федор перетащил Ляму в свой угол, лег рядом с ним спина к спине, прижался для теплоты.
До чего ж чудна жизнь! Сколько раз он мечтал убить Ляму, раздавить, как клопа, а теперь ему его жалко. Даже куском бы хлеба поделился, если б был… Говорит, сирота; говорит, почки отбили; слезьми умывается. А ведь было время — королем держался… Посади дурака на трон — вот тебе и король! Все на цырлах перед ним ходить будут. Или взять настоящего короля, намылить ему хорошенько рожу, кинуть в холодный карцер, — вот и будет чмо… Недаром на допросах даже безвинного любую бумагу подписать заставят. Если захотят — заставят! Человек-то — он ломкий. Каждый — голод чувствует, боли боится, в каждом слезы есть… Видать, все от условия зависит. Сам-то себе человек и не хозяин… А кто ж ему хозяин? Бог? Божья воля? Чего ж тогда говорят, что человеку после смерти перед Богом ответ держать? Он сам своей меркой человеку судьбу меряет. Пускай сам перед собой и отвечает! Он сам над всем хозяин — с него и весь спрос!… Уже не впервой Федору казался весь мир каким-то обернутым и беспорядочным, словно бы отражение в зеркале, — в зеркале, по которому щелкнули камнем, оставив на нем множество лучей-трещин, искажающих любую красивую и истинную черту на земле. До чего ж все бестолково устроено! Может, сам-то по себе Бог и праведник, а устроитель-то из него хреновенький вышел. Может, потому люди Бога-то среди людей хотят найти. Вон большевики нашли себе богочеловеков. И флаг над сельсоветом против церкви повесили. Чтоб знал небесный Бог свое место! И побаивался, кабы совсем с земли не стерли… Эх, бесова душа! Федор потесней прижался к Ляме, который дремотно притих.
Ляма помер тем же вечером. Безгласно, без конвульсий. В камере висела холодная темень, чуть свету из окошка. Холодная темень и долгая тишина. Но Федор сразу поймал тот момент, когда Лямы не стало. У Федора появилось ощущение, что тишина стала еще плотнее — совсем подземельная. Казалось, он какой-то восприимчивой мембраной улавливал удары сердца Лямы, и вдруг — их не стало. Вкруговую сдавила полная пустота.
Склонившись над Лямой, Федор убедился, что он мертв, плотнее прикрыл холодеющие веки. Даже впотьмах он различал слезливое, испуганно-детское выражение лица несчастного блатаря. В приоткрытом рту тускло виднелась стальная фикса.
— Теперь ты, Ляма, свободен. Ни решеток для тебя, ни заборов… Прости меня, — вздохнул Федор и принялся стаскивать с покойного фуфайку, рукавицы — все, чем мог утеплиться сам. Мертвый в тепле не нуждается.
Укутавшись, Федор долго лежал без сна, мысленно разговаривал с дедом Андреем: «Вот, дед, спознал я твоего же счастья. Как тебя жизнь на бандитство вывела — не знаю. Но теперь точно знаю: почему ты меня к своему дружку посылал… Пускай четыре года мои — законные. За нож А еще пять — клеенные ни за что ни про что. Не понял я тебя тогда. Мне твои слова вдичь показались. А теперь дошло. Девять годов я здесь не просижу…» И хотя сейчас путались мысли Федора в этой заточительной клетке, возле умершего, прощенного недруга, оправданным виделся прежний дедов наказ. Неспроста он, родной дедушка, своему внуку не враг, не злоумышленник, подсказывал путь к свободным уральским лесам. Это тогда, когда примчался из Раменского к деду Андрею, казалось немыслимым скрываться под чужим именем, находясь в вечном побеге. Да чего же тут дикого? Сдохнуть рядом с Лямой — разве лучше? Жизнь-то, как ни верти, одна. Не захочешь сдохнуть, так по любой дороге пойдешь. Со злодейством-то в душе не родятся. Злодейство миром дается. Нечего тогда перед этим миром и каяться… Да и вовсе отчет за грехи держать не перед кем… А может, и ждет кто-то на том свете? Нет, Бог пускай сам с себя спрашивает. Всякий человечий грех на себя примеряет. Это его рук дело… Федор резко тряхнул головой. С ума бы здесь не свихнуться. Карцер-то, видать, на то и придуман, чтоб человек не только оголодал, но и обестолковел. И от мысли, что здесь он может сойти с ума, Федору стало душно и жутко. Показалось, что Ляма пошевельнулся.