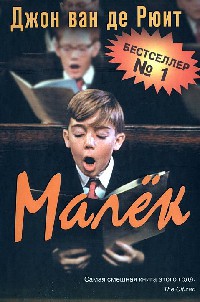Книга Милые мальчики - Герард Реве
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отчего мне явилось это воспоминание? Теперь я понимал почему или, по крайней мере, полагал, что понимаю. Тогда я в самом деле понял кое-что, отнюдь не все, но в то время это и не было возможно. Что заставило меня, мнительного, оробелого, часами кружить, сидеть, стоять около статуи Ангела Благовещения? Человек, которому отпущен долгий век, порой получает шанс кое-что понять. Трижды по семь лет пропащей моей жизни прошло с тех пор, когда Ангел Благовещения подал мне знак, и вот теперь, через двадцать лет беспросветного херовода мне было дано истолковать его.
— Ну что ты маешься, — сказал Мышонок. — Что там опять?
— Да нет, ничего. Просто вспомнилось кое-что. Дурацкий, в сущности, случай. Могу рассказать, если тебе не скучно. Было дело. Когда я жил в нашей Индии[52], на острове Флорес…
— …была там одна тюрьма, не иначе, исправдом какой-нибудь, или трудовая колония… Ох, Боже ты мой!
— Да нет, нет, вовсе нет! Речь совсем не о том. Со мной и другое бывало! Нет, там, на острове Флорес, знавал я одного хирурга. Совсем молодой, лет, я думаю, двадцати семи. Повезло ему несказанно, поскольку он смылся в Америку прямо перед началом японского вторжения, в армию его там не забрали, так что доучился и диплом получил. Человек этот делал операции по какой-то глазной болезни в госпитале под эгидой одного римско-католического монастыря. Остров Флорес. Цветок архипелага. Одно уже это. Я имею в виду, всего-то и работы было у него: эти операции, одна за другой, просто конвейер, и одна-единственная болезнь. Его звали Флорис, Флорис на острове Флорес, поверишь ли! Тронуться можно от таких штучек, и тем не менее. Нет, все-таки не так: Флорис был не он, а его брат, но об этом позже. Ну никто ж тебе ни в жизнь не поверит! Представь, я был знаком с одной дамой, звали ее г-жа Поллак Даниэльс, и было ей 74 года, и все зубы, в том числе коренные, были у нее свои. Один, правда, шатался. И вот она время от времени вытаскивала его и вклеивала обратно синтетическим клеем из тюбика. Нет, я не рекламирую клей. Я-то что могу поделать, раз все это именно так и я сам, лично, это пережил. Однако рехнуться от этого можно…
— Не бывает небывалого… Дальше давай.
— Оперировал он дай боже. Сперва станет на колени, помолится, потом примет на три пальца коньяку, который ему старшая сестра отмеряла мензуркой из аптечного шкафчика. Тут у него руки больше не трясутся. Но уж тогда всё — больше ни капли. И вот как-то раз одна заезжая медицинская макака поведала ему, что все зависит от какой-то сотой миллиметра, через которую он проходит своим ланцетом. Все дело, мол, в точности: на сотую, тысячную долю в сторону, и глаз потерян. Хирург-то это, конечно, знал, теоретически, однако таких мыслей никогда себе не позволял. И вот из-за того, что эта макака ему наплела, он восемь дней не мог оперировать, а только лежал и трясся в постели, со скрюченными пальцами и с судорогами в руках. И в порядок пришел лишь тогда, когда сукин сын опять убрался ко всем чертям. Но я не об этом. Дело было вот как: хирургу этому разрешили остаться, но поставили условием вступить в орден и забыть про женитьбу. А он уже был обручен. Ему хотелось остаться в этом госпитале. А они были против, потому что он был среди них единственный белый. И вот они искали, к чему бы прицепиться, чтобы от него отделаться. Но у них ничего не вышло, потому что он пошел на их условия. Он вступил в орден и сказал своей нареченной, Агаткой ее звали, двадцати четырех лет: «Я хочу остаться здесь и делать операции. Тебе ведь нравится Флорис?» — «Нравится». Флорис — это был его брат, двумя годами младше. «Тогда женитесь. Выходи за Флориса». Сказано, сделано. Бредовая история, а? Не знаешь, что и подумать, вот ведь как. Ясное дело, такие вещи случаются, но что ты будешь с ними делать, вот вопрос. Он все еще в том монастыре, но вот совсем недавно я слыхал, что ему там несладко. За это время он начитался всяческой специальной литературы и пришел к выводу, что в смысле любви он поклонник Греческих принципов, но, к несчастью, его тянет только к белым молодцам и ребятам, а там ведь белого днем с огнем не сыщешь. Что же до Агаты, то она с Флорисом весьма удачно выкрутилась: второй выбор можно смело назвать первым. Сухой из воды вышла, так сказать. А вот доктор Глазутех в слезах неутешных. Я все еще от него письма получаю. Все до единого — с Флореса. Почта оттуда ползет четыре месяца, потому что корабль на Яву отходит раз в квартал. Надо бы ему экспресс-почтой мальчишку послать, но у меня и без того горы корреспонденции. Просто голова пухнет.
— Да, — задумчиво проговорил Мышонок; тон его не был ни раздраженным, ни грубым — по крайней мере, уже кое-что. Но теперь я пытался — втуне — нащупать связь между инцидентом с архангелом Гавриилом и историей доктора Глазутеха и его брата Флориса. «Да будет мне по слову Твоему»[53], — вот что объединяло обе притчи. Но ведь изречением этим можно было истолковать что угодно, — в сущности, любую историю. В обеих, однако, речь явно шла о призвании, никто бы не стал этого оспаривать. В то же время я не мог объяснить, почему я рассказал Мышонку вторую историю, а не первую. Вот ведь штука, подумалось мне, а ведь я попросту стеснялся. Захочет ли еще Мышонок слушать меня, если я решусь рассказать? Шанс был ничтожный, но попробовать стоило. Я поежился без видимой причины.
— Мышонок, мне нужно еще кое-что тебе рассказать. Это займет недолго, но я хочу, чтобы ты выслушал. Мне страшно… мне всего страшно. Если я расскажу, я снова буду делать все, что ты захочешь. Всегда. Я ведь не просто так прошу. — Боже, боже, что за жалкий скулеж. Какая же я размазня. — Ты в самом деле должен позволить мне рассказать.
— Ну, что там, братишка, что такое? — Мышонок вдруг обнял меня. Меня смущали его ласки: я не осмеливался принимать их, опасаясь, что не смогу жить дальше, если когда-нибудь их лишусь.
— Я никуда не гожусь в постели, о зверь мой.
— Да нет же, брат Волк.
— Но Господь — в любом случае, Матерь Его — знает, что я люблю тебя, и как люблю. — Лучше бы я попридержал язык: это все подпадало под рубрику «патетика». Тем не менее я продолжал в том же духе.
— Ты позволишь мне рассказать?..
— Ну конечно.
— Совершенно… совершенно чистосердечно, скажем так?
— Совершенно чистосердечно. — (Фу, какая все это мерзость).
— Ну давай же, Волчушка.
— Это… это случилось… — Я колебался. Неизвестно, что меня останавливало, но я не мог так сразу приступить к тому, о чем собирался рассказывать. — Это было… однажды мне приснился сон… Год назад или около того. — Я вновь замешкался. — Временами… я придаю снам некоторое значение. Иногда… они много значат… — Что за бредятина.
— Да, Волк, я тоже. Давай дальше. — Невозможно выпытать, запасался ли Мышонок терпением для моего рассказа или же в самом деле хотел услышать его, да и, по правде говоря, я был слишком близок к отчаянию и чересчур самолюбив, чтобы исследовать этот вопрос до конца.