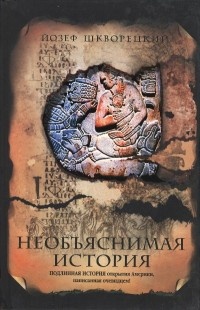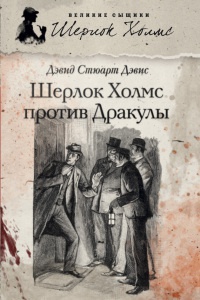Книга Львенок - Йозеф Шкворецкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я промолчал.
— Кто она?
Я медленно повернулся в сторону Серебряной. Та уже совершенно забросила министра и целиком посвятила себя шефу, который из кули успел превратиться в токующего самца. Шефиня налила мне.
— Пей и рассказывай!
— Да я о ней ни черта не знаю!
— Неужто?
— Ни черта.
— И она тебя совсем не интересует, правда?
Я снова замотал головой.
Она положила ладонь на мою руку, сжимавшую рюмку.
— У тебя грустные глаза, — сказала она. — Я не люблю грустные глаза. Почему ты никогда не позвонишь мне?
— Я позвоню.
— Да уж, ты позвонишь!
Я с трудом оторвался от происходившего рядом с розой и усмехнулся:
— Мне нравится моя работа, и я не хочу ее потерять.
— Тогда держись меня, друг мой. Эмил подкаблучник, если ты не в курсе.
Я посмотрел на нее. Глазки, потонувшие среди щек заядлой сладкоежки, показались мне очень злыми. Не стоило, пожалуй, обзаводиться таким врагом. Я вздохнул.
— Твой Эмил здорово портит мне жизнь.
— Да что ты? Мне следует его наказать. И как он ее тебе портит?
— Он ставит перед мной невыполнимые задачи.
— Цибулова, да? — спросила всезнающая шефиня. Проблема воспитательницы нарушительниц общественной морали уже явно не умещалась в стенах редакции. — А почему это тебя так волнует? — прибавила шефиня.
Я снова усмехнулся.
— Он хочет, чтобы я ее утопил.
— Ну и что?
Я выдержал паузу. Группка вокруг министра, совсем недавно полумертвая, теперь просто бурлила. Шеф обхватил Ленку за талию, а Ленка ржала во все горло и не только не сопротивлялась, но даже ерошила левой рукой остатки шефовой шевелюры. Я опять почувствовал себя круглым идиотом, и меня охватила ослепительно-красная ярость. Так вот, значит, какой ты цветочек, вот какой ты ландыш! Вот, значит, как! Чего тебе от него надо? Денег? Или лысина приглянулась? А может, ты любишь старых развратников с политическим весом?
Я было метнулся к столику с напитками, но тут же осознал, что моя рюмка полна. Шефиня, которая в отличие от мета давно уже была выше ревности, проявила полное понимание. Я, как настоящий идиот, снова опрокинул в себя водку.
— Ну и что? — повторила шефиня. Что — «ну и что»? Ах да. Цибулова.
— Я не уверен, что сейчас подходящее время, чтобы топить именно эту рукопись.
— А почему Эмил думает по-другому?
— Мое положение более щекотливое. Он сильнее моего… — Я хотел сказать «запачкан», но сумел сдержаться. — Он же шеф, — произнес я взамен. — Ему куда проще, чем мне, плевать на общественное мнение внутри редакции.
Шефиня сверлила меня злыми глазками и видела насквозь.
— И он может наплевать на тебя, если ты его подведешь, так ведь?
Ее глазки действительно видели меня насквозь. Но внезапно я словно прочел в них выход для себя. Ладно, была не была!
— Так, — ответил я. — А я на него не могу, понимаешь?
Я пристально взглянул ей в глаза. Она сощурилась.
— Не бойся, — прошептала она. — Таким симпатичным мальчикам, как ты, ничего не грозит. Если, конечно, они ведут себя как паиньки.
И шефиня прижалась ко мне грудью. Я не протестовал.
— Приходи завтра после обеда. Эмил заседает в городском комитете.
Мета обдал коктейль парфюмерно-алкогольных ароматов. Рука шефа по-прежнему покоилась на талии моей коварной спутницы. Ландыш ты серебристый! Убью!
— Придешь? — прошептала шефиня.
— Может быть, — пробормотал я. Новая порция водки начала отплясывать в моих жилах рок-н-ролл. Шефова гостиная заходила подо мной ходуном, как пьяный корабль.
Полночь стала свидетельницей абсолютного развала вечеринки: меня она настигла в кресле за фикусом, возле которого с другой стороны сидел министр в окружении Врхцо-лаба, Андреса и Биндера. Его глаза на стянутом скукой лице напоминали два неподвижных монокля. Шеф, готовый всегда и во всем служить и выслуживаться, совершил невиданное: не поделился барышней Серебряной. Он укрылся с ней в самом дальнем уголке гостиной, и там барышня Серебряная, в позиции тет-а-тет, говорила что-то, безостановочно, бесшумно и быстро шевеля розовыми губами, а я погружался в отчаяние. Шефиня меня покинула. Министр очнулся от летаргии и послал страстный взгляд в сторону кофейной розы, но это привело лишь к тому, что Андрес и Врхцолаб оживились и, несмотря на поздний час, продолжили бодрыми голосами рассказ о молодежном и партизанском движении. Я почти что пожалел министра, которого всегда и всюду атаковали такие вот Врхцолабы, постоянно загораживая ему путь к какой-нибудь кофейной розе очередным непрошеным докладом. Однако потом всю свою жалость я обратил на себя.
Пробило уже половину первого, а Андрес все еще болтал:
— Есть люди, которые недооценивают партизанское движение в Центральной Чехии. Но моя книга откроет им глаза. Я систематизировал деревенские хроники около-пражских районов. И даже вы, товарищ министр, не представляете, что мне удалось выяснить!
— Да что вы говорите!.. — глухо обронил министр и взялся за пустую водочную бутылку. Он покачал ее на весу, но Анрес не обратил на это внимания.
— Партизанов было по крайней мере вдвое больше, чем привыкли считать. Многие из них после войны из скромности не рассказывали о себе. А многие, к сожалению, погибли в боях.
— Ну да, ну да, — сказал министр и вернул бутылку на стол. Одна из последних реплик этой вечеринки принадлежала режиссеру Биндеру:
— Из хроник можно было бы сделать хорошее кино. Наверное, через ваши руки проходит множество сюжетов.
— Да еще каких! Это был бы фильм о героях нашей эпохи.
— Ну да, ну да, — повторил министр и посмотрел на часы. — Однако мне пора. Утром я еду в Брно на открытие выставки пчеловодов.
Он опять бросил жаждущий взгляд на барышню Серебряную и поднялся с места.
Мы тоже встали.
— Я позволю себе послать вам один экземпляр, — успел еще сказать Андрес.
— Отлично, — проговорил министр. Он колебался. Шефиня оставила бесчувственного Копанеца и двинулась к нам. Министр медлил, не в силах оторвать глаз от укромного уголка гостиной.
Там шеф держал за руку барышню Серебряную и совершенно не обращал внимания на то, что его дом покидает primus inter pares[28].
Наконец-то впервые за целый вечер кофейная роза принадлежала мне. Я вез ее на такси вдоль Влтавы, и сквозь открытое окошко наши лица обдувал теплый полуночный ветерок чудесного лета. Но со мной было только ее тело. Душа же витала где-то среди тайн, недоступных моему пониманию. Ленка молчала, смотрела на реку, которая расчленила луну и составила из нее серебристый коллаж, похожий на те, что делал Коцоур, и думала о своем, загадочном. В белом свете ночи сияла темнота ее грудей, загорелы х по самые розовые соски. Портной, сшивший ее головокружительное платье для коктейлей, учился, наверное, у самого Господа Бога: тот тоже обтягивает юные тела, но только не тканью, а кожей кофейного цвета. Желание застило мне разум, ревность наполняла меня яростью.