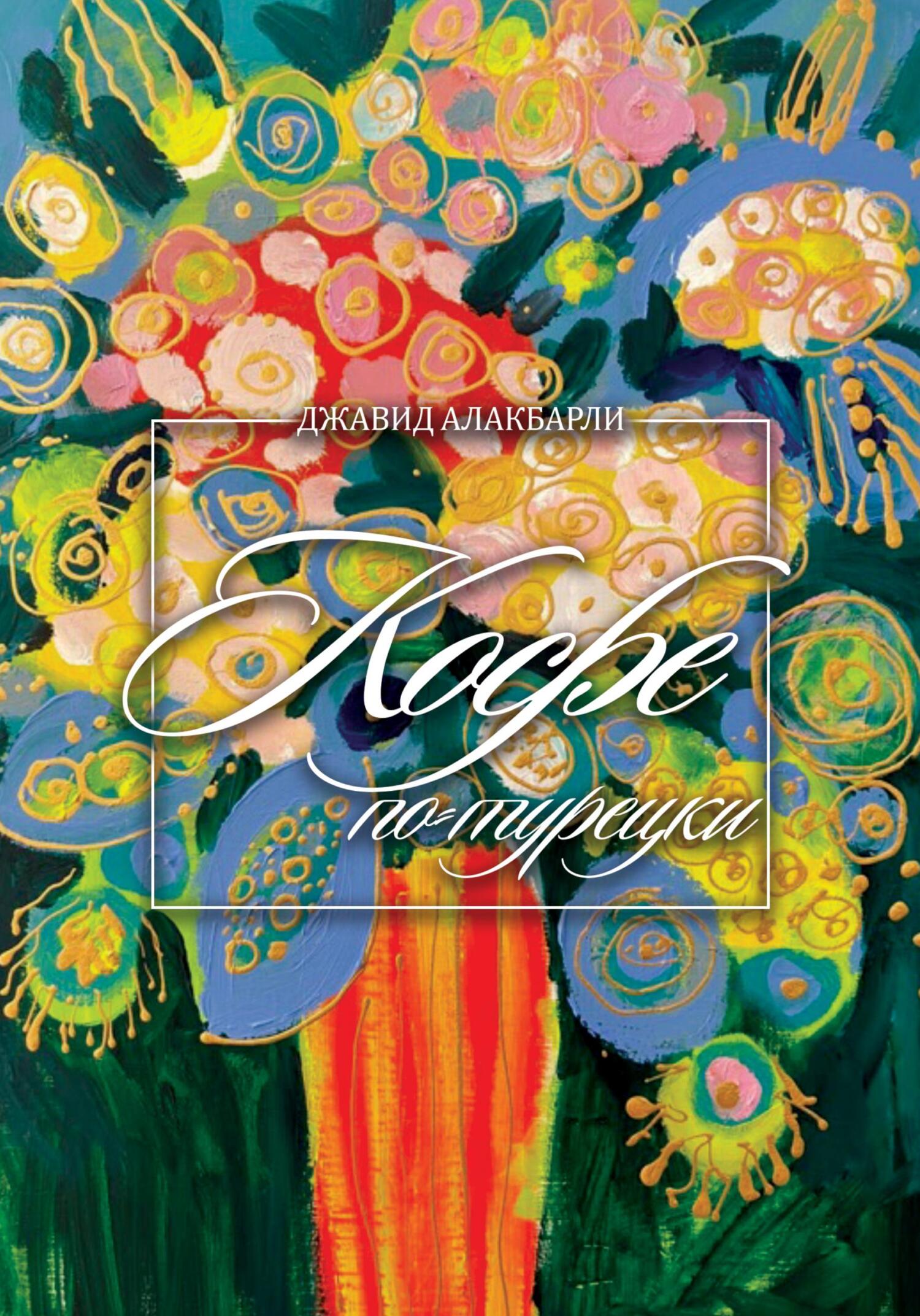Книга Башня любви - Рашильд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он был бы уликой против меня.
Весьма возможно, что я никого и не убил. Тамошние девицы привыкли к ножовой расправе возлюбленных с моря...
Эта целовалась, как маленькая Мари... Еще одна фантазия? Каким образом маленькая Мари, моя невеста, могла обратиться в девку для...
Я не чувствовал ни печали, ни угрызений. Мои мысли и поступки не зависели от моей доброй воли.
Кроме того, я слишком много пил в ту ночь...
Мой берет так и пропал.
Я купил себе другой.
Потекли недели за неделями, месяцы. Рождество, Пасха, Вознесение, Воздвижение. Я уже не слышал их колоколов.
Святой Христофор приходил, свистел свой призыв к жизни перед нашим домом смерти.
Я не отвечал, измученный попытками жить.
Старик и я, мы существовали бок-о-бок, как два медведя в клетке, говорили ровно столько, сколько нужно для выполнения наших обязанностей и скрывали друг от друга свои тайные мании. Он мало-по-малу приближался к концу, уже даже перестав изучать свой букварь, а я был весь в адских лапах привычки.
Мы ели, пили, заводили себя каждое утро, как часовой механизм, прекрасный механизм с рассвета до сумерек, но который портился регулярно каждую ночь после первых снопов света с маяка.
Мы исполняли свой долг освещать мир... ничего не видя сами.
Долг — это есть тоже одна из маний, самая ужасная мания — потому что в нее веришь. Начинает казаться, что она спасет!
Сознание моего преступления пришло ко мне лишь в тот день, когда старик повалился на эспланаду, подкошенный какой-то необычайной болезнью.
Он курил трубку, вытянувшись во весь рост, прислонившись спиной к стене маяка; его ноги были мокры от пены, которая в бешенстве добиралась до них.
Я жевал табак, сидя на парапете с северной стороны, и глядел на него, изумленный тем, что вижу его таким большим.
С тех пор, как я перестал разговаривать с ним при разных торжественных случаях, и сам заделал посредством цемента, присланного со Святою Христофора, повреждения в пятой амбразуре, с тех пор он как будто бы стал относиться ко мне с некоторой враждой.
Однако, он продолжал быть очень внимательным к своим обязанностям, особенно во время бурь. Впрочем, он даже меня спас от одного порыва ветра в ночь, когда погибал корабль... и мы относились друг к другу с уважением.
...Какой корабль? Я уже как следует и не помню.
Все корабли гибнут около нас.
Ведь мы живем на Башне Любви!
Матурен Барнабас был очень высок, худ и высок, как маяк; он сгибался лишь для того, чтобы вынюхивать обломки кораблекрушений.
Его иссиня-бледное лицо, курносый нос, кровавые глаза, слезившиеся теперь и светящиеся гноем, его высокий плешивый лоб, придавали ему вид выходца с того света, внешность призрака какого-нибудь матроса, погибшего в далеких краях и вернувшегося, чтобы мучить других за то, что они, желая от него освободиться, слишком рано отправили его на дно моря с грузом в ногах.
Он курил, поплевывая, и слюна текла по его одежде, такой грязной и такой изношенной, что вокруг распространялось ужасное зловоние.
От него смердило покойником.
Я продолжал соблюдать чистоту. Может-быть, потому, что я все еще немножко любил себя самого. Он уже больше не любил себя, не любил больше своих товарищей, разлюбил утопленниц. Он поджидал только последнего прилива... того, который принесет ему его корабль для последнего путешествия между четырех досок. По моим вычислениям ему должно было быть около шестидесяти.
— Может-быть, да! А, может-быть, и нет! — Ответил бы он мне, если бы еще умел говорить.
Но он он предпочитал издавать лишь какие-то странные звуки, что-то вроде хрюканья дикой свиньи, которые были бы совершенно непонятны, не сопровождай он их жестами.
Он курил...
Вдруг, он повалился вниз лицом на всегда скользкие плиты эспланады и чуть не скатился в море.
— Дед Матурен! Ей! Дед Матурен!
Я приподнял его под руки.
Он мне показался страшно тяжелым, точно налитым свинцом.
Ноги его не двигались, прямые, вытянутые невидимыми веревками, руки беспомощно болтались около тела, даже не пытаясь искать себе опоры. Одна только голова жила, и его глаза, эти бледные ужасные глаза светились зеленым светом.
— Лодка! — сказал он ясно.
— Какая лодка, дед Матурен?
Теперь, у меня тоже не было охоты молчать.
Я трясся всеми своими членами.
Прислонив старика к парапету, я сбегал за бутылкой коньяка и заставил его выпить.
Судорожно сжимавшиеся зубы раздавили горлышко бутылки, и он проглотил битого стекла не меньше, чем самой жидкости.
— Послушайте, дед Барнабас, нельзя же так помирать без исповеди... „Святой Христофор” был вчера... Он явится снова лишь через две; недели. Какого же черта... Вы слышите меня? А?
Качнув головой, он сделал знак, что — да, и к моему изумлению засмеялся своим циничным смехом, который у него бывал в ночи сильных бурь.
До самого вечера я старался оживить его ноги; но это было так же легко, как с кусками дерева.
Вероятно — паралич.
Я еще сохранял некоторую надежду из-за головы, которая продолжала двигаться на шее. Я надел на старика поплотнее его фуражку, покрыл старым одеялом, от которого несло рыбьим жиром, и оставил его на час, чтобы зажечь лампы наверху.
Когда я поднимался по винтовой лестнице, мое сердце усиленно билось. Мне пришла на ум его фраза:
— Моли Бога, Малэ, чтобы я не подох летом, после прохода парохода...
И я вспомнил также странный совет поливать его водкой.
Не собирается же он, наконец, гнить в течение двух недель рядом со мной, он, который уже в продолжение стольких лет гниет в мертвецкой своей души?
А! Нет! Я скорей выброшу его в океан!
Уж коли на море, так, как на море!
Когда я спустился, то нашел старика лежащим очень смирно и не шевелящим ни руками, ни ногами.
Его глаза, с признательностью обратившиеся на меня, были очень нежны, и он сказал мне тоном, которого я от него никогда не слышал:
— Мой бедный Жан, со мной кончено.
Так мог мне сказать мой отец, мой родной отец.
Я стал перед ним на колени, плача и забывая свои эгоистические мысли.
— Ну, что там, старина, еще нет повода вам бояться, ноги ваши отойдут. От одного падения, от простого головокружения не умирают. В вашем возрасте... конечно, можно заболеть, но ведь я тут, чтобы за вами ухаживать... Если мы не говорим... то мы ведь понимаем друг друга, мой бедный старик. Несчастная судьба уже давно вложила наши руки