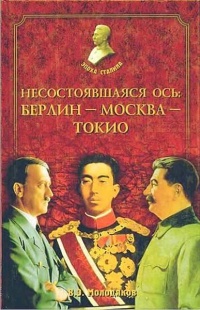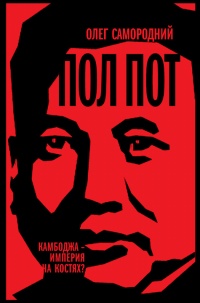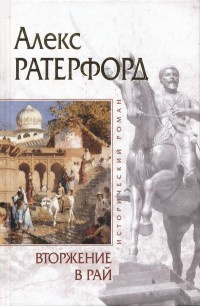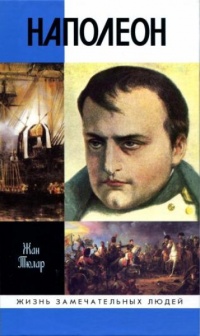Книга Час новолуния - Валентин Сергеевич Маслюков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С улицы прорывались голоса, слышался женский крик, его покрывали раскаты густого мужицкого хохота. Когда оттуда, из солнечного дня, заглянул через подсенье пушкарь с расплывшейся от ухмылки рожей, его встретили хмурые, строгие взгляды.
— Слышь, колдун, — весело сказал пушкарь, — что же ты это, а? Какую бабу!., э-эх!.. — крякнул он, очерчивая в воздухе нечто убедительно объёмистое. — Упустил, а? Любка-то твоя там...
Но Родька, покосившись поначалу на шум, больше не шевельнулся.
Не поднимала головы и Федька, обставляла чёртиков крестами — с той, очевидно, целью, чтобы бесы с бумаги не ушли, никакого дурна и огласки бы от них не произошло. Низко склонившись, она прикрывала рисунок от чужого взгляда.
За этим занятием и застиг Федьку приставленный к горну колодник — с неприятным удивлением она обнаружила, что тот заглядывает под руку. Когда подняла глаза — с холодным вопросом, — колодник предупредительно осклабился:
— А я ведь тоже... знаешь, холопом пишусь.
«К чему это он?» — пыталась она сообразить.
— Да-да! — кивнул колодник, улыбаясь настороженно, как человек, который тянется держаться на равной ноге с собеседником, но не уверен в глубине души, что получится. — Я ведь служилый, даром что цепь на ногах. Не сирота посадский, государю царю пишусь в челобитной холопом — что твой боярин!
— Стрелец что ли был? — вынуждена была вступить в разговор Федька.
— Выше бери! Денежного жалованья двадцать рублей на год, хлебный да соляной оклад положен!
— Сын боярский?
— Детей боярских много, а я один. Палач. Семнадцать лет у государева губного дела стоял... пока вот в тюрьму не вкинули.
Дружелюбие палача не нравилось Федьке, то примечательное обстоятельство, что среди нескольких ничем не занятых человек он выбрал в поверенные своих несчастий скромного тихого юношу, вызывало замешанное на беспокойстве недоумение. Не давала ведь она, кажется, повода думать, что палач обнаружит в ней родственную душу.
С виду палач гляделся обыкновенным человеком: среднего роста, не толстый и не худой, крепкий мужик лет за сорок. Разве что на лицо прежде времени постаревший. Хотя ничто не мешало предположить, что возрасту он был стариковского, а держался как раз молодцом. Во всяком случае, семнадцать лет стояния у государева губного дела сказались у него почему-то не на ногах, а на голове: на ногах он держался прочно, а голова вот — увы! — облысела. Бороду же палач брил, что по тюремным его обстоятельствам нужно было признать совсем не обыденной, далеко идущей заботой о внешности, заботой, притязающей на благоприятное внимание окружающих.
— А ты, выходит, новик? — поддерживал учтивую беседу палач. — То-то я тебя у пытки прежде не примечал.
— А ты-то что в кандалах? — уклонилась от палачева любопытства Федька.
Заплечных дел мастер воспринял вопрос как поощрение, сел перед Федькой на корточки для обстоятельного разговора и отвечал задушевно:
— То-то и оно! Семнадцать лет у губного дела стоял, а ныне живот свой в цепях мучаю! Так-то вот, да! Словили меня на покраже, привели в губную избу с поличным — у Шестачка Деревнина покрал. Словили! — «Словили!» он произносил как будто бы с одобрением. — Ну, значит, я говорю, привели к губным старостам. А пытать-то... фью-фью, — он присвистнул, — пытать-то и некому. Пытать-то кто будет, кто? — Забавное это недоразумение и сейчас немало веселило палача. — Губные старосты и пытали, вдвоём. Ну, я вижу, что дело-то будет, и сразу, значит, бух в нога! А иначе-то как? Без пытки-то кто скажет? А как пытать начали, тут уж не тяни, сразу и признавайся, — ты это, дружок, возьми себе на заметку. Чего тянуть?! Тут уж, поверь мне, тянуть нечего — выкладывай! Не понимаю этих, которые тянут. Знающий человек, он тянуть не станет.
Палач зазвенел цепью и глянул под ноги. Надо думать, он искал и находил утешение в воспоминаниях, не без удовольствия возвращаясь мыслью к тому волнующему времени своей жизни, когда опыт семнадцатилетнего стояния у государева губного дела позволил ему безупречно выдержать испытание дыбой. Иным любителям тянуть добрый пример!
— Семья есть? — спросила Федька, чтобы не молчать.
— И жена была. Ясное дело, скурвилась, — крутнул рукой, показывая, как именно представляет себе это явление: баба скурвилась. Потом палач поднял глаза и улыбнулся Федьке. Вероятно, он полагал, что отозвавшись о своей жене, как о курве, имеет основания ожидать от собеседника ответной доверенности. — Гаврило меня зовут, Гаврилой Фёдоровым, — сказал он, без приглашения усаживаясь на Федькину скамью, слишком короткую, чтобы поместиться вдвоём, не стеснив друг друга.
В приторной ухмылке его проглядывало нечто гадостное, вот, кажется, положит на колено руку, просительно заглядывая в глаза. Охотник до хорошеньких мальчиков?
Федька подвинулась, сколько можно было, не свалившись, но он не упустил её и посунулся, прижимаясь горячим толстым бедром.
— А если, к примеру, челобитную государю написать, сколько возьмёшь? — спросил он дрогнувшим от сладости голосом.
— Государю? — отозвалась Федька сухо. — Две гривны.
— Ну?! — обиделся палач. — Это тоже! Дерёшь! По-свойски-то уступить надо, небось я не с улицы к тебе пришёл.
Державшаяся лишь каким-то внутренним усилием улыбка сошла, и лицо омрачилось. Помолчал. Но вместо того, чтобы оставить наконец разговор, наклонился к уху и зашептал:
— А могу ведь государево слово и дело крикнуть. Хоть сейчас! — Глаза нечистые, в красных прожилках.
Федька отвернулась. Она ощущала взволнованное сопение и дыхание — прямо в шею, она не знала, как избавиться от напирающего всё больше, всё теснее бёдра, — становилось потно и жарко. Страшно. Потом широкая, изъеденная язвочками лапа его легла на колено и слегка, с трепетной тревогой пожала. Пальцы поползли, рука двинулась путешествовать, вкрадчиво-вкрадчиво подбираясь выше, к теплу...
Несколько мгновений Федька глядела на это в каком-то бессильном и жарком столбняке. Но орудие-то было у неё наготове, сжимала она дощечку судорожными руками... Бац! — хлопнула доской по костяшкам присосавшейся к бедру лапы.
Палач ахнул, дёрнул обожжённой рукою, разинув рот. Сердце Федькино колотилась, глянула быстро на сторожей — все повернулись и видели. Может, давно уже исподтишка наблюдали. И всё, поняла она с огромным, как судорожный вздох, облечением, все её одобряли.
С шипением отмахнув разбитой пястью, палач вскочил, чтобы ударить ногой. Первому порыву его помешала цепь, и палач оглянулся, как оглянулась мгновение до того