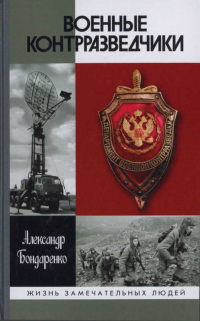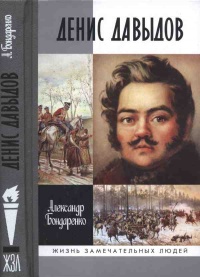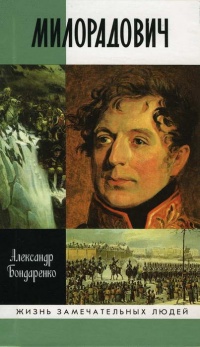Книга Дымная река - Амитав Гош
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В целом картина была столь неожиданно возмутительной, что Джоду, всегда легко заводившийся, впал в ярость и сорвал холст с мольберта. Дрозд был слабее, ему оставалось лишь просить вмешательства Полетт: «Умоляю, останови его! Я изобразил вас Адамом и Евой во всей прелести вашей невинности и простодушия! Никто не догадается, что это — вы! Прошу, заклинаю, удержи его!»
Но Полетт, и сама на грани кипения, врезала ему по уху и вместе с Джоду разодрала холст в клочья. Дрозд смолк, по лицу его струились слезы; наконец он выдавил: «Ничего, настанет день, когда вы за это поплатитесь…»
С тех пор Дрозд больше не приходил, и теперь о жизни братьев Полетт знала понаслышке, в основном из реплик, мимоходом оброненных Тантимой. Помнится, года два назад стало известно, что Сандари слегла, а Малявка отправился в Англию личным посланником муршидабадского наваба.
Дрозду пришлось самому добывать себе пропитание, и он изыскал способ применить свои таланты, приведший к скандалу: стал создавать «картины Чиннери». Хорошо знакомому с отцовским стилем и техникой, ему не составило труда повторить его манеру и очень выгодно продать несколько полотен, якобы оставшихся после отца. В конце концов подделку обнаружили, и Дрозд, не желая сидеть в индийской тюрьме, последовал примеру своего дяди Уильяма — бежал из страны. Говорили, он уехал к отцу, но куда именно, Полетт не знала. И вот теперь, услышав, что Джордж Чиннери обосновался в Макао, она сообразила: вполне возможно, там обитает и Дрозд, встречи с которым ей не избежать, сопровождая Пенроуза в дом художника. Учитывая, как они расстались, не исключено, что давний знакомец найдет способ поквитаться за старую обиду.
Вообще-то Полетт вспоминала его с большой теплотой и нередко жалела, что дружба их расстроилась, однако не забыла и скверные черты его натуры: Дрозд вполне был способен измыслить какую-нибудь гадость, дабы вбить клин между нею и Хорьком. Раздумывая над всем этим, она не успела признаться Хорьку в своем знакомстве с Дроздом. Возникла иная тема, и момент был упущен.
Бахрам настоял, чтобы до конца ремонта и переостнастки Нил и А-Фатт оставались на «Анахите». Каждого поселили в отдельной каюте, что после тягот, перенесенных в последние месяцы, казалось невообразимой роскошью. С утра до ночи их потчевали разносолами: за завтраком Бахрам вызывал своего личного кхансамаха, повара Место, чернокожего гиганта с сияющей бритой головой и буграми мышц, и обсуждал с ним, чем кормить крестника на обед и ужин. Всякая трапеза становилась пиршеством разнообразных кухонь: от парсов предлагались дхансак из барашка с коричневым рисом, моло́ка в окре и патра-ни-мачхи — филе рыбы, запеченной в банановых листьях; от Гоа — креветки в кляре, курица в соусе ксакути и огненно-острая креветка чек-чек; от Восточной Индии — барашек с тыквой в приправе карри и свиной сарпател.
Однако ситуация имела свои недостатки. Нилу приходилось постоянно быть начеку: помнить заявленную версию случайного знакомства в Сингапуре с А-Фаттом и разыгрывать неведение, кем тот на самом деле доводится Бахраму. Последнее давалось нелегко, поскольку Бахрам, по натуре импульсивный и ласковый, сам частенько выходил из роли крестного отца: заключал А-Фатта в крепкие объятья, называл «сынком» и подкладывал еду на тарелку.
Он как будто не замечал холодности, а порой даже неприязни А-Фатта к подобным проявлениям любви, и вел себя так, словно впервые зажил жизнью, о которой всегда мечтал, и теперь полноправным главой семьи передает свою мудрость и опыт родной кровиночке.
Такое весьма неуклюжее и чрезмерное выражение привязанности Нилу казалось трогательным, но он понимал, отчего оно раздражает А-Фатта, который, видимо, считал это убогой компенсацией за долгие годы своей безотцовщины.
Однако самым поразительным было то, что эти, пусть не безупречные, отношения между отцом и сыном существовали вообще. В Калькутте Нил знал многих мужчин, имевших внебрачных детей, но ни один из них не проявлял хоть кроху нежности к своим отпрыскам и их матерям, а кое-кто, опасаясь шантажа, просто умертвлял младенцев. По слухам, его собственный отец, старый заминдар, породил дюжину ублюдков от разных женщин и всегда разрешал ситуацию одним способом: вручив мамаше сотню рупий, отправлял ее в деревню. В его кругу это считалось нормальным и даже щедрым поступком. Нил воспринимал это как должное и никогда не думал о своих братьях и сестрах по отцу. Став владельцем поместья, он мог легко разузнать об их судьбе, но ему это даже не приходило в голову. И сейчас, оглядываясь назад, он не мог не признать ошибочность своих прежних взглядов, как и то, что подобное отношение Бахрама к своему незаконному ребенку и его матери не просто необычно для человека его положения, но нечто из ряда вон выходящее.
Объяснить это А-Фатту было непросто.
— Для отца Фредди как собачонка. Можно трепать, гладить, тискать. Он думать только о себе.
— Я тебя понимаю, А-Фатт. Но, поверь, на его месте большинство мужчин просто бросили бы вас с матерью. Это легко, и так поступили бы девяносто девять человек из ста. Он же сего не сделал, что говорит в его пользу. Неужто не ясно?
Пожатием плеч А-Фатт отвергал (или делал вид, что отвергает) эти доводы, но Нил видел: вопреки всем обидам друг его взволнован тем, что находится в центре отцовского внимания, чего не бывало прежде.
Шли дни, А-Фатт попритих и все больше мрачнел; Нил знал, что причиной тому не только предстоящая разлука с отцом, но и невозможность поездки в Кантон. Однажды они прогуливались по палубе, и А-Фатт, ничуть не скрывая зависти, сказал:
— Везет тебе. Ты едешь в Кантон, лучший город на свете.
— Вот как? — удивился Нил. — Чем же он лучший?
— Другого такого места нет. Сам увидеть.
— Скучаешь по Кантону, да?
А-Фатт понурился.
— Очень. Сильно скучать по Кантон. Но не ехать.
— Может, ты хочешь кому-нибудь передать весточку? — спросил Нил. — Я готов это сделать.
— Нет! — вскинулся А-Фатт. — В Кантон обо мне молчок. Помнить это, никогда не забывать. Никаких ля-ля-ля. Ни слова про А-Фатт.
— Хорошо, не сомневайся. Жаль, что мы не можем ехать вместе.
— Знал бы