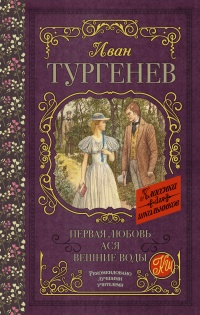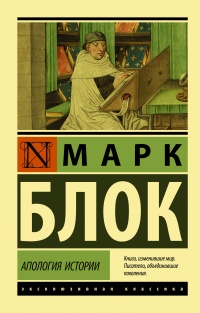Книга Ложка - Дани Эрикур
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Как и многие другие вещи, — отзывается он. Смотрю на него с недоумением.
— Это каламбур. Y как why?[39]
Пытаюсь посмеяться, но голос звучит фальшиво. Собеседник уходит в дом, оставляя дверь распахнутой. Я стою снаружи, он находится внутри. Полистав увесистый словарь Харрапа, Пьер кивает:
— Phenomenology. У на конце. Хочешь кофе?
— Нет, спасибо, я не пью кофе.
— А бокал вина?
Не обращая внимания на иронию в его голосе, я спрашиваю, чему посвящена статья — политике или орнитологии.
— Птицы, кайенские колибри — это метафора!
— Метафора чего?
— Изменения парадигмы.
Смотрю на него с еще большим недоумением.
— Рассвет, зима, пригород Манчестера, — монотонно, будто читая прогноз погоды, поясняет журналист. — Человек отправляется на свою нудную работу. Несясь по улице, чтобы успеть на автобус, краем глаза наш герой замечает экзотическую птицу! Это кайенская колибри. На крыше остановки сидит еще одна колибри. И тут мир словно замирает! Человек начинает думать по-другому, он восстает против эксплуатации своего труда, признает посредственность своего начальника. Он прекращает капитуляцию! В этом, Серен, и состоит главная мысль: нечто новое появляется в нашей жизни, и мы вдруг ставим все под сомнение…
Он умолкает, переводя дух, а я уточняю:
— Это хорошо или плохо?
— Что именно?
— То, что мы ставим все под сомнение.
— Не просто хорошо, а великолепно! По мнению доктора Лоу, появление колибри в Манчестере изменило поведение сотен рабочих. Вместо того чтобы пресмыкаться перед шефами, они устроили забастовку и…
— А кто такие пироманы, о которых говорится в статье?
— Политики. Хозяева предприятий. Телевидение. Кюре. Они сжигают нашу способность к размышлению и транжирят наши деньги. Кстати о деньгах… — Пьер достает из кармана десятифранковую банкноту и протягивает ее мне. — Спасибо за редактуру.
Я твердо отказываюсь. Он, кажется, все понимает. Приятно, что не нужно отстаивать свое решение.
Молчание затягивается. Я заглядываю внутрь дома.
— Зайдешь в гости?
Если не считать тарелок в раковине и ротангового кресла в углу, вся жизнь обитателя этого дома, похоже, сосредоточена вокруг письменного стола. На нем чашки, документы, книги и, конечно, шумная пишущая машинка. Журналист кивает на ванную, но я туда не захожу (терпеть не могу, когда кто-то осматривает мой собственный санузел, и стараюсь без крайней надобности не заглядывать в чужие). Перевожу взгляд на стремянку, приставленную к отверстию в потолке.
Пьер садится за стол, закуривает сигарету и надевает на нос очки. А они ему идут.
— Можешь подняться, если хочешь.
Взбираюсь по ступенькам и жалею, что надела юбку. Мне неловко от мысли, что журналист поднимет голову и заметит, что у меня пухлые бедра. Покосившись на него, вижу, что он склонился над пишущей машинкой. Останавливаюсь на четвертой ступеньке — отсюда чердак уже хорошо просматривается. Обведя взором белую мансарду и потолочное окошко, я вдруг ощущаю непреодолимое желание лечь в постель. Спускаюсь обратно и выхожу на порог.
— Оттуда открывается незабываемый вид на звезды, — произносит Пьер.
Он на что-то намекает?
Я уже стою на пороге, как вдруг Пьер встает из-за стола и протягивает мне книжицу в бордовой обложке. Стихи Артюра Рембо.
— Ты читала? Очень красивые стихи. Позволь подарить тебе эту книгу.
Пьер снимает очки — похоже, хочет продолжить разговор. Так мы и беседуем — он в доме, я на крыльце.
— Месье Куртуа говорил, что ты рисуешь, — произносит он, выдыхая сигаретный дым в сторону стремянки.
— Если честно, скорее нет, чем да. Рисую все меньше и меньше.
— Я тоже пишу все хуже и хуже. Это скверно. Чувствую легкую дрожь.
— Дно воздуха свежее, — шепчет Пьер по-французски. — Тебе знакомо это выражение?
— Нет.
— The air’s bottom is fresh, — переводит он.
Я хихикаю. Но вообще-то, ничего смешного тут нет.
— Это означает, что холод проникает в помещение… в воздухе становится свежо, — говорит он, подбирая слова.
— Да-да, поняла.
— А ты бы как это назвала?
Миссис Ллевеллин спешит мне на помощь.
— Лето умирает.
Пьер приподнимает брови, пораженный моим словарным запасом.
Гулять и блуждать — разные вещи
Поздняя ночь, а я не сплю. Мои биоритмы и вправду сбились. Включаю ночник и пробегаю взглядом по странице «Воспоминаний коллекционера»: «В последней главе автор постарается дать определение искусству коллекционирования…»
Выключаю свет. Я слишком утомлена, чтобы следовать за извилистой мыслью чокнутого полковника.
Дерьмо, шлюха, срань, ублюдок, хрень, дубина… Нет, дедушкин метод тоже не действует.
Снова зажигаю лампу и наугад открываю сборник Рембо. Стихотворение «Морской пейзаж». Одиннадцать коротких фраз и десятки незнакомых слов. Читаю текст вполголоса — сделать так мне порекомендовал Пьер Куртуа, когда увидел книгу в моих руках. «Этот способ поможет тебе без всяких словарей ощутить смысл текста», — пояснил он. Увы, смысла я не улавливаю, однако кое-какие ощущения у меня появляются.
Мне приятно шептать слово «ежевика». «Стволы» и «дамбы» тоже. Мне даже нравится выдыхать слово «Рембо». Интересно, что бы я почувствовала, если бы поцеловала Пьера Онфре?
Моя история с ложкой перекликается с его метафорой о кайенских колибри. Стоило мне увидеть ложку, и мир изменился. Правда, я не ставлю под сомнение абсолютно все.
И ложка не является метафорой.
Террикон тоже. Чтобы выдерживать его вес, мне приходится укладывать подушку-валик вдоль позвоночника. Снова гашу свет. Луна наводняет комнату рваными отблесками.
Без четверти час ночи слышу нетвердые шаги Мадлен в гостиной — похоже, дама опять хочет отворить дверь на лестницу. Секунду спустя раздается поступь Колетт. Осознание очевидного вдруг вырывает меня из дремоты. Каждую ночь — каждую ночь! — Мадлен выбирается из уютной постели и пытается выйти во двор. Что же так ее туда манит? Едва ли это Пьер Онфре…
Строго говоря, Мадлен не страдает лунатизмом. По мнению Пьера Куртуа, ночью она пребывает в другом измерении, нежели днем, ее мозг проживает свое настоящее, не такое, как у нас. Мадлен то погружается в небытие, то возвращается в наше время, и тогда ее речь обретает ясность. «Но вот вопрос, Серен, — что мы понимаем под ясностью?» — развел руками Пьер Куртуа в конце того разговора.
Возможно, то настоящее, которое Мадлен проживает во дворе, как-то перекликается с ее настойчивым интересом к ложке.
И что из этого следует?
Я снова в тупике. Связь между серебряным столовым прибором и прогулками пожилой дамы окутана тайной.
В замке воцаряется безмолвие. Кажется, что и мебель погружается в сон.
Представляю себе дамбу, над которой кружат вихри света, и, поскольку сон ко мне так и не спешит, рисую в полумраке.
Одиночество — это мятый помидор
Сквозь полудрему слышу, как