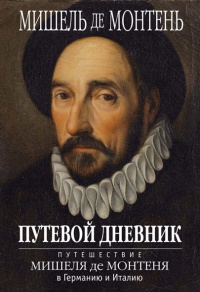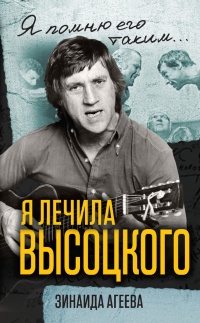Книга Танцы со смертью: Жить и умирать в доме милосердия - Берт Кейзер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она опять рассказывает о морфинном насосе. Когда она разъяснила Жюлю, что он может из-за этого умереть, он тут же захотел от него избавиться, и дозу морфина стали медленно сокращать. Я уже не пытаюсь вникать в детали того, как такие вещи в точности происходили, сколь бы драматичными они ни были бы, потому что всё равно никогда ничего толком не выяснишь.
Сегодня разговаривал и с матерью Жюля. Маленькая женщина, несколько азиатского типа. Довольно нервная и сначала, когда говорит, будто клацает зубами, и моргает, словно ей глаза слепит солнце. После чашечки чаю дело идет чуть лучше. Ее мужа давно нет в живых. В Де Лифдеберг ее привез сын Эрнст, менее удачная версия Жюля: в этом варианте уже покрывшийся слоем жира, который мало-помалу нависает на многих тридцатилетних, если они курят, едят и пьют, не зная меры. Инертный малый с насупленным взглядом.
Она уверяет меня, что Эрнст «уже давно слишком переутомляется». К счастью, говорит он мало. Но что касается желания Жюля свести счеты с жизнью, он говорит: «Да, мы сыты по горло, сыты по горло, могу вам сказать. Поэтому, что касается нас…».
Фразу он не оканчивает.
– Да, так что же касается вас? Не доведете ли вы свою мысль до конца? – спрашиваю я в раздражении.
Он идет на попятную:
– Нет, пусть мама скажет.
Мать рассказывает о тягостном открытии Жюля своей гомосексуальности. Она говорит о «гомофилии». Это слово всегда связывается у меня с представлением о стерильном пинцете, которым решаются коснуться чего-то очень противного. Она показывает мне фотографию 1955 года: яблоневый сад весной, стоят Жюль с Феннеян, рядом их первая лошадь с жеребенком. Мне нелегко видеть подобные фотографии, на этой стадии. Разве это не то же самое, что сыпать соль на рану?
– Несмотря ни на что, мы были ему хорошими родителями, – говорит она.
Вежливо слушаю. Что тут можно сказать? Она еще раз придет к нему, чтобы уже совсем попрощаться. К счастью, Эрнст не придет: «Точно знаю, что я этого не перенесу».
Мы договариваемся, что я не буду ставить ее в известность о времени смерти сына. Не могу не думать о том, что всё выглядело бы иначе, если бы Жюль был гетеросексуалом и болел лейкемией. Разве это не печально? Не отвратительно?
Ночью мне снится, что я должен бесконечно возиться с ВИЧ-инфицированными пациентами, сплошь покрытыми фистулами и трещинами, из которых постоянно что-то сочится, и мои руки изранены, и я нигде не могу найти перчаток. Но несмотря ни на что, приходится продолжать работу.
В три часа снова иду к нему. Довольно странно, но Жюль совершенно спокоен. Говорит очень мало. Заставляю себя произнести убедительный монолог о смерти, собственном выборе, успокоении, СПИДе, Феннеян, Постюме, матери и что «сегодня вечером, пожалуй, пора». Когда я заканчиваю и, умолкнув, прошу его мне ответить, он, после долгой паузы, вдруг произносит: «Да» – с настойчивостью, которая, казалось бы, никак не связана со всем предыдущим. «Что „да“?» – хочется мне спросить, но я не делаю этого. Он болен ужасно.
Мы договорились, что Феннеян вечером будет при этом присутствовать. В полвосьмого мы оба входим в его палату. Снова овладевает мною страх перед свинцовой тяжестью минут в интервале между моим приходом с ядом и моментом, когда умирающий лишится сознания. Вряд ли когда-нибудь научусь переносить эту мертвую пустоту.
Не в силах унять дрожь, еще раз объясняю Жюлю, чтó мы будем делать. Наливаю жидкость в стакан. Я отрепетировал, чтó скажу.
– Жюль, ты готов?
– Да.
– Дать тебе руку?
– Дай, – говорит он, к моему удивлению.
Значит, он действительно этого хочет. Испытываемое мною облегчение означает, что до самой последней минуты я всё еще сомневался.
Феннеян поддерживает его, пока он пьет.
Между двумя глотками он опять говорит:
– Спасибо вам за всё, что вы для меня сделали.
И, выпив стакан до половины:
– Вы мне потом вытрете губы?
Жидкость действительно слегка клейкая. Это его последние слова. Через пять минут он уже мертв.
Феннеян садится на постель и кладет его голову себе на колени. Я всё больше прихожу в ужас от бесконечных мук, которые он перенес. Словно только теперь, уже после его смерти, могу наконец хорошо разглядеть следы, которые оставила на его теле борьба с ангелом тьмы. Никогда еще не подступал я буквально вплотную к столь непомерным страданиям. Тело его превратилось в прах, тáк оно и пахло. Волосы ломкие, тысячами толстых синюшных гусениц ползли по нему узлы саркомы Кáпоши; голова Жюля с впалыми глазами, веки, бугорчатые, из-за чего мы не смогли их закрыть; странные, болезненные наросты на ступнях и неописуемый запах, смесь мужского лосьона, съедобной упаковки и жидкого стула. Феннеян оплакивает эти чудовищные останки.
Позже, когда мы не без кривой усмешки стали искать друг у друга, во что бы его одеть для кремации, мы никак не могли найти обуви.
– А что, – недоумевает Феннеян, – без обуви не положено?
– Ну, – говорит Мике, – может, и не так глупо, если он в своих чулках подойдет к святому Петру: понадобится, так прошмыгнет мимо него.
Что касается моего облегчения из-за уверенности, что он действительно хотел умереть, можно было бы сказать, что здесь я здорово запоздал. Действительно, моей самой большой заботой остается пациент, который в самый последний момент скажет: вообще-то, я не уверен. Мике поведала мне такую историю. Это произошло год назад. Мать одной ее подруги была при смерти. Рак кишечника, метастазы в печени. Приняли решение об окончании жизни, но она становилась чем дальше, тем всё более непокладистой. Вечером, в день ее смерти, она сама открыла дверь перед врачом.
– Господи, вы ко мне? – была ее первая реакция. Потом память ее прояснилась, и она приняла свою дозу. Хорошо, всё уже позади. Врач прощается и в дверях говорит дочери:
– Ведь ваша мать хотела этого, разве не так?
На следующее утро просыпаюсь с легкой головной болью. Жюль не отпускает меня, я всё еще чувствую его запах. Чудовищные смертные муки. Никогда еще не встречал такого страдальца.
В полдесятого головная боль заставляет меня вновь лечь в постель, и весь день, до половины седьмого, борюсь с ужасной мигренью, какой у меня не бывало уже долгие годы. Такая головная боль превращается в монстра, который набрасывается на тебя и которого пытаешься стряхнуть с себя осторожными движениями головы и шеи. При малейшем неверном движении его хватка становится крепче, и думаешь только о том, как избавиться, как отвлечься от этой головной боли, иначе она раздавит тебя.
И вдобавок ко всему этому неукротимые позывы к рвоте (так называемая центральная рвота, при пустом желудке, когда выделяется только немного слизи). Позывы неизбежно сопровождаются непроизвольными мышечными движениями, и монстр радостно использует нечаянно выпавший шанс, чтобы с яростью отвоевать утраченные позиции. Обессилев от рвоты, падаешь навзничь и вновь начинаешь сражаться со своим монстром, раз за разом выдирая из себя его когти.