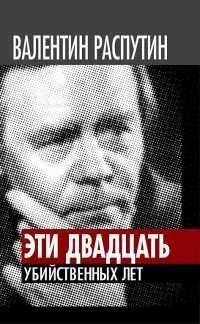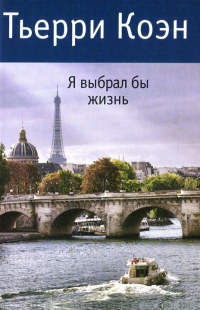Книга Ради усмирения страстей - Натан Энгландер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не важно. Суть в том, что у них у всех был Бог. В сердце у них был Бог.
Чарльз положил руку Залману на плечо:
– Я попросил ответить.
– Вы и без меня знаете, – сказал он. Лицо его омрачилось. – Знаете, а хотите, чтобы я солгал.
– Что, так все плохо?
Лицо раввина вытянулось и одрябло, от былого восторга не осталось и следа.
– Никакой надежды, мистер Люгер. Говорю вам как еврей еврею. Для благочестивых – никакой надежды.
Чарльз вернулся к столу, но Сью уже ушла, со стола было убрано, стулья водворены на место. Неужели минутка так затянулась? Мусорное ведро кто-то вынес из кладовки и поставил посреди кухни, из него торчала бумажная скатерть. Вот и все: одноразовый ужин – и столовая как новенькая.
Он побрел в спальню и замер у двери кабинета. Сью стояла у окна перед потемневшими свечками, в некоторых местах, где натек воск, подсвечники прилепились к подоконнику. Она подцепляла ногтем застывший воск, отдирая их от крашеного дерева.
– Это не кощунство, надеюсь? – спросила она, продолжая отковыривать восковые сосульки, свисавшие с серебряных чашечек подсвечника.
– Нет, – сказал Чарльз, – не думаю.
Он прошел через всю комнату и встал рядом с женой. Накрыл ее руку, отскребавшую лужицы воска с подоконника.
– Пусть так остается, – сказал он. – Ничего.
– Краска попортится, – ответила она.
– Зато видно будет, что рама настоящая. Как будто в этой квартире, в этой комнате живут.
Чарльз обвел взглядом кабинет, посмотрел на торшер, на книжный шкаф, потом глянул в окно, за которым виднелись серые здания и небо. Он пока не вчитался в Библию и все еще надеялся, что Бог выручит его.
Он взял Сью за обе руки, крепко сжал. Как бы хотел он, чтобы она поняла то, что понял он: произошла действительно грандиозная перемена, но след, который она оставила по себе, не такой уж большой. Вся разница в конечном счете в его душе.
Сью смотрела мимо. Наконец их взгляды встретились.
Он хотел открыться ей, хотел, чтобы она с предельной ясностью увидела все то, к чему он лишь недавно пришел. Чарльз был настроен решительно. Он будет беспристрастным, отдавая себя на суд Сью – всецело, без утайки, в надежде, что она полюбит его нового.
Буна-Михла заглянула в мужскую часть святилища – робко, хотя, кроме ее мужа, мужчин там не было.
– Ици, – позвала она.
Он был у ковчега, менял лампочку в вечном огне, и сделал вид, что не слышит.
– Ици, дети. Подумай о тех детях.
– Еще чего! – Он вкрутил лампочку, обернув ее платком, и вечный огонь, мигнув, вновь засиял, как обычно.
Реб Ицхак аккуратно сложил носовой платок и, сунув руку под кафтан, запихнул его в задний карман.
– Ици!
Он обернулся к ней:
– Мне надо беспокоиться о детях? Это что, мои дети, что я должен беспокоиться о них и об их жадности?
Она вошла в святилище и уселась в первом ряду обращенных к востоку скамей.
– Тогда, может, тебе надо беспокоиться о своем шуле? Беспокоиться об аренде, а ведь пора платить. – Буна переводит дух. Приятно покричать на этого упрямца.
– Сколько народу молится здесь, Ицеле? Сколько молитв возносится к небесам под этой крышей?
– Тридцать один человек молится здесь три раза в день, а я знаю, сколько молитв долетает до небес? То-то и оно, тогда я бы знал и лучший способ платить за аренду.
– А как насчет крыши, под которой мы спим?
– Да, Буна. И тогда я знал бы, как платить и за крышу.
– Как, как – ты уже знаешь, – сказала она. – Четыре недели потрудиться – и у нас будет кусок хлеба во рту, так в чем вопрос? Потом хоть одиннадцать месяцев не улыбайся – никто тебя не заставит.
Реб Ицхак обдумал доводы жены. Каждый год один и тот же спор, и каждый год он сдается. Если бы он родился мудрецом или взял в жены женщину попроще. Он проводит пятерней по длинной седой бороде, до самого кончика.
– Это грех – такая работа. – Что еще он может сказать.
– Ничуточки не грех. И где сказано, что поиграть с гойскими детьми – грех? Играть с ними в игры не запрещено – нет таких правил.
– Поиграть! Ты не видела, Буна. Кто хоть раз это безобразие видел, не скажет, что это игра. Со времен Ноя не видел мир такой беспредельной жадности.
– Хорошо, пусть не игра. Ладно. Но ты все-таки пойдешь. И будешь веселиться и смеяться, как отец невесты на свадьбе, – приятно тебе или неприятно.
Реб Ицхак снял кафтан и стал спускаться по лестнице в подвал, опираясь при каждом шаге на перила. Он был грузный, с приличным животом, и радикулит давал о себе знать. Шаткие деревянные ступеньки поскрипывали, пока он спускался в темноту. Там, пошарив, он нащупал замахрившийся провод и одинокую лампочку в шестьдесят ватт.
Под сетью труб, ржавой паутиной оплетавших потолок, стоял мазутный котел отопления. За котлом – поворот, заканчивающийся тупиком, где и находился узкий чулан. Самое отдаленное место в доме, очень удобно хранить там посуду для Песаха: так ее не будут осквернять в другое время. Он сдернул простыню с коробок, на которых черным маркером крупными буквами на иврите было написано: ПЕСАХ. Правда, прочесть он этого не мог, поскольку свет от слабой лампочки сюда почти не проникал. Но реб Ицику ничего разглядывать особо и не нужно было. То, что искал, он мог найти на ощупь. Нужная коробка была нарядной, не то что те, которые обычно приносят из переулка позади супермаркета, с рекламой сухих завтраков или туалетной бумаги на боках, – коробки, проживающие уже не первую жизнь. Эта была со снимающейся крышкой, все равно как шляпная картонка, только квадратная. Гладкая на ощупь, обитая шелковым атласом. Только он коснулся ее – сразу узнал.
Поднимая коробку, реб Ицик применил упражнение «Прямой позвоночник – здоровая спина», мысленно считая про себя: «Раз – ноги врозь, два – согнуть колени», точь-в-точь как показал ему доктор Миттльман.
Кое-как взобравшись с громоздкой ношей по лестнице, уже на полпути к парадной двери, Ицик остановился и поставил коробку на пол.
– Ой, – сказал он, – жетоны на метро.
– Они на полке в прихожей, там же, где лежат каждый день последние сорок лет. – Буна вышла из кухни, вытирая руки полотенцем, – она сейчас покажет этому строптивцу, где жетон, где полка, а если понадобится, и где входная дверь.
– Как проходить в метро, ты еще помнишь? – спросила она грозно: пусть только попробует заартачиться. – Или мне одеться и тебя проводить прямо до центра – ты этого хочешь?
Реб Ицхак этого вовсе не хотел.
Надев кафтан и пальто и подхватив атласную коробку, он послал Буне Михле взгляд, полный отчаяния, – так он смотрел на нее только два раза в году. Первый раз – когда надо выносить из подвала посуду для Песаха, а второй – с порога, когда в городе начинается предпраздничная суета и он отправляется в универмаг. И такой грустный был этот взгляд, что она, хоть и дала себе слово не пилить его, не смолчала: нельзя же так распускаться.