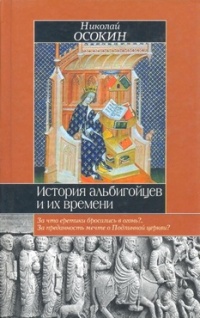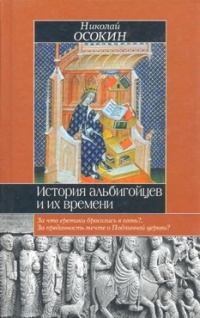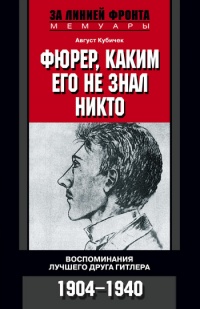Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сахаров тут же закричал, что всем офицерам надо занять твердейшую позицию, иначе солдаты падут духом, и понятно почему. Сначала тебя отправят стрелять в партизан, потом уничтожать их пособников — ведь в указе помянуты «пособники партизан среди жителей» — и под конец переоденут в немецкую форму. Ресслер впервые за все совещания открыл рот и возражал, что успех Власова в Берлине не гарантирован, а если генерал и произведет впечатление, то русские части ему отдадут не скоро, немцы в этом плане осторожны. Кромиади возражал, что все не так плохо, просто надо растолковать людям перспективы и дать клятву не идти против совести — то есть увещевать партизан, но не стрелять в них. Я понял, что он уже видел себя в Берлине с Власовым, занятым новым масштабным делом. «Знаете что, — возразил Кромиади Грачев, — последние месяцы люди отдыхали, а теперь можно и поучаствовать в деле».
Когда мы возвращались в Шклов, майор сиял и пытался что-то насвистывать. Вдоль канав тянулись желтые поля с покосившимися телеграфными столбами. Вечер был тих и безмолвен. На столбах сидели аисты. Началась жатва, и кое-где в сумерках солдаты в нижних рубахах махали серпами вместе с мальчиками и стариками. Часовые жгли костер. «Ресслер прав, — начал я, — надо смотреть трезво: изначальные обещания нарушены, а если их нарушили раз, то дальше будет только хуже…» «Можно подумать, вы к этому не готовы, — прервал Грачев. — Сейчас удобный момент, чтобы выстроить большую армию по немецким лекалам, но с русским характером. Форма вермахта — плохо, но что поделать, мы уже увязли, понятно вам, Соловьев? На компромисс мы пошли в самом начале, и теперь для нас один выход: победа Германии. Стрелять по красным — ладно, придется стрелять по красным. Не мы довели Россию. Такова ее судьба — и судьба тех, кто в Красной армии. Меня интересует задача, а задача сейчас — организовать и победить. Вермахт дает еду, обмундирование и боеприпасы, а кого вы встретите на поле боя, брата ли, свата, решит судьба. Чего вы распереживались? Хотите встать к стенке у красных? Хотите обратно в офлаг?»
Грачев, безусловно, был прав, но с каждым днем мне становилось хуже. Я изматывал себя вопросами: хочу ли я вернуться домой победителем вместе с немцами после всего, что узнал? Хочу ли я бежать в лес и, если сразу не пристрелят как штабного офицера, вновь воевать за тех, кто принес моей семье только горе? Как я ни крутил в уме эти вопросы, из ответов на них не складывалось никакой картинки. С ужасом я понял, что все, что бы я ни выбрал, приведет к преступлению. Из положения, когда, что бы ты ни сделал, ничего не изменится, можно только устраниться — физически. Уйти подальше от шевелящегося рва. Но как?
События ускорились и закрутились, как поток в водозаборе на Шумном мосту. Кромиади, Сахаров, Ресслер подчинились и, прихватив Палена и Ламсдорфа, засобирались в Берлин. Командир армии написал воззвание к солдатам. «Мои верные и преданные боевые товарищи, офицеры и солдаты Русской Национальной Народной Армии! Волею судеб мне приходится прощаться с вами. С болью в сердце покидаю вас и наш родной очаг, где впервые зародилась идея национального возрождения и где мы, забыв все и вся, как братья, как сыны одной матери, объединились вокруг идеи возрождения нашей Родины. Помните, что, куда бы меня судьба ни забросила, душа моя и мысли всегда будут с вами и будут сопровождать вас везде и всюду в вашей боевой жизни. Пусть каждый из вас запомнит, что борьба за Родину есть святое дело и достижение наших целей есть высшее блаженство…» — и так далее. Удивительно, но на солдат эта патока действовала по-прежнему неотразимо. Бойцы плакали, подходили к избавителю обниматься, а некоторые умоляли его остаться нелегально. Гермоген, рыдая, крестил всех и брызгал водой из чаши.
После их отъезда Жиленков развернул свою пропаганду и начал издавать газету «Родина» по четвергам и воскресеньям. Там он называл евреев иудами и обещал покончить с ними вместе с большевиками. Боярский дерзил связистам и прикомандированным офицерам, но, поскольку дело знал и был на хорошем счету после власовского меморандума, ему дозволялось. Всю осень батальон сидел в Шклове. Приезжал фон Клюге, новобранцы вновь давали присягу. О Власове ничего не было слышно, а на стрельбище мы больше не ездили, так как развезло дорогу через поле. Из Осинторфа же люди бежали десятками. Ходили слухи, что всю армию переоденут в немецкую форму. От скуки я учил играть в шахматы всех желающих. Обычно занятый штабной писаниной, я разговаривал, двигая фигуры с рядовыми.
Среди них я обратил внимание на солдата по фамилии Филимонов. Отличался от прочих он тем, что все время что-то делал, причем не только для себя, но и для товарищей — смазывал ли винтовку и перематывал портянки или прокалывал прибереженным шилом чей-нибудь ремень. Филимонову было около пятидесяти, он любил наставничать, советовать, гуторить с товарищами, сидя на крыльце казармы. Иногда он играл на губной гармошке, что привлекало немцев-связистов, к которым Филимонов относился так же ласково и по-свойски. От него несло таким солдатским уютом, что казалось, он служил в русской армии с самой Куликовской битвы. Заинтересовавшись, я пригласил его поучиться шахматам, но долгого разговора у нас не вышло. «Что, Филимонов, думаешь насчет того, что вам скоро прикажут в братьев стрелять?» — спросил я, разъяснив сици-лианскую защиту. «Ох, да это вы, офицеры, думаете, — ласково усмехнулся Филимонов, — а солдату или в лес уходить, или присяги держаться. В лес зимой мало кто хочет. Посему рассуждение мое такое: когда державы, как великаны, воюют, нам, карликам, со своими нюнями рассусоливать не время. Дали присягу? Дали. Значит, уже не отвечаете лично, а выполняете приказ. Разбираться, лучше ль человеку у вас на мушке пожить или пора уж помирать, будет господь бог, если в такого верите. А боец исполняет, что велено, и все тут». Я дернулся так, что посыпались фигуры, и понял, что не хочу больше ничего знать о том, что думают простые солдаты.
К зиме некоторые отряды вызвались прочесывать окрестные леса и иногда даже приводили партизан. Те отъедались, делали вид, что завербованы, и скрывались. Мне начали сниться такие же сочетающиеся с явью сны, как об оршанке. Однажды в ноябре, когда травы стали сухи и земля затвердела, я вернулся с вечерней разводки караула. В полях все замерло, стояли безветренные дни, и вокруг, как на карте степи, осталось всего три цвета — коричневый, желтый, серый. Честно говоря, я с трудом переживал это время года еще с детства. Когда все почти мертво и поражено холодом — гулкий воздух, неуверенный ледок, — меня укалывала под сердце странная игла и гнала, как медный всадник Евгения. Я понимал, что на кончике этой иглы — ощущение, что мир искажен, беззащитен и вот-вот перевернется, что запущен часовой механизм беды. Но время это заканчивалось и шел снег. Я ждал снега как освобождения, благодати и манны. Начинались счастливые дни и тянулись по январь, когда вступает в права год, и дальше все катилось как обычно. Но в Шклове снег все не являлся.
Едва я лег на койку и закрыл глаза, как почувствовал позыв выйти во двор, потому что там кто-то кричал. Вышел и увидел тележку — коляску, — а в ней запеленутого ребенка. На коляске лежало подобие корыта. Я решил найти мать и повез коляску по городу. Ребенок умолк. Один раз я остановился вылить воду из корыта и вывалил ребенка. Я увидел, что он упал на другую сторону коляски, и лежит головкой в воде, и кричит, плачет. Я бросился к нему и поднял. Он был уже как бы распеленутый. Когда я его взял, он был весь красный, как будто только что родился, и очень теплый. Я осмотрелся. Никого рядом не оказалось. Стал искать вывеску, чтобы понять, куда забрел, и увидел: «Wishnevaya str.».