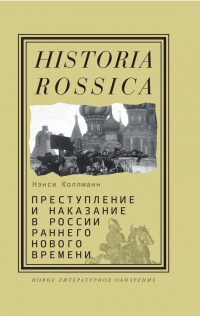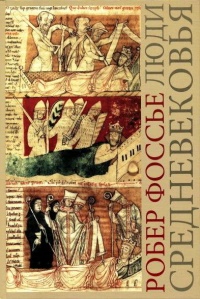Книга Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики - Ольга Тогоева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Осел, вне всякого сомнения, являлся в греческой культуре фаллическим животным. Похожие культы существовали также на Крите, в древней Индии, в Малой Азии, во Фригии, в Египте и у древних семитов[338]. В Античности имели хождение многочисленные мифы весьма непристойного содержания, главным героем которых выступало именно это животное. Осел был одним из участников «маскарадов», связанных с культом Диониса[339], - т. н. фаллогогий, главной отличительной чертой которых был торжественный вынос фаллоса:
Ведь именно Мелампод познакомил эллинов с именем Диониса, с его праздником и фаллическими шествиями. Конечно, он посвятил их не во все подробности культа Диониса, и только мудрецы, прибывшие впоследствии, полнее разъяснили им [значение культа]. Впрочем, фаллос, который носят на праздничном шествии в честь Диониса, ввел уже Мелампод, и от него у эллинов пошел этот обычай[340].
Осел символизировал также плодородие, был связан с культом хлеба, винограда и любых иных плодов, приносимых землей. Он почитался и как первый помощник беременных и рожениц: его копыто якобы способствовало внутриутробному развитию плода и помогало при родах, а повешенный в саду череп ослицы способствовал оплодотворению[341].
В метафорическом совокуплении с ослом заключалась и символика «прогулки»: подобное унижение прелюбодейки предшествовало ее изгнанию из полиса, лишению прав гражданства. Виновная в адюльтере преступница переставала, таким образом, быть членом сообщества. Когда же «прогулкой» наказывался мужчина, он, во-первых, уподоблялся женщине, а во-вторых, подвергался диффамации и лишению статуса полноценного гражданина. Этот символический смысл azouade подтверждался и другими вариантами наказаний за прелюбодеяние, применяемыми в греческих полисах и рассмотренными выше: пробежкой по улицам города, насильственной эпиляцией или процедурой ραφανιδωθη. Любой представитель сильного пола, принужденный к «прогулке на осле», всегда, вне зависимости от обстоятельств, символически превращался в женщину. Именно это «превращение» имел в виду автор жития преподобного Авраамия, уточнявший, что святого катали на осле, обув в женские сандалии: «Муки злы наведу на тя и на пезеи ослятице всажжен будеши без седалища в сандалья женская червленнаа обвуен будеши»[342], или автор жизнеописания св. Бидзина Чолокашвили, одетого шахом Аббасом в «женское платье»[343].
Таким образом, общий символический смысл ритуала сохранялся и в тех случаях, когда речь шла об «обычном» адюльтере, и когда преступника обвиняли в политической измене, и когда — как в случае со святыми и юродивыми — дело касалось явной или мнимой измены религиозному призванию. Все общественные институты, нарушение устоев которых наказывалось «прогулкой на осле», функционировали, с точки зрения современников, по одной и той же схеме, что, собственно, и делало столь значимым и вообще возможным использование одинакового ритуала наказания. Все они рассматривались как священный союз, как брак, заключенный между мужчиной и женщиной, правителем и его городом (страной), священником и самой церковью[344]. Соответственно, любое политическое предательство или духовное искушение воспринимались аналогично измене физической.
Эта аналогия совершенно ясно прослеживалась, к примеру, в истории уже упоминавшегося выше Андроника I Комнина, обвинявшегося своим народом не только в узурпации власти, но и в сексуальном насилии над жительницами Константинополя:
Когда Андром был коронован, то повелел незамедлительно схватить всех тех, кто, как ему было ведомо, считал худым делом, что он стал императором, и приказал выколоть им глаза, и замучить их и погубить их лютой смертью. И хватал всех красивых женщин, которых встречал, и насильничал над ними[345].
Поэтому во время «прогулки на осле» бывшему императору были предъявлены самые разнообразные обвинения:
И пока везли Андрома от одного конца города до другого, подходили те, кому он причинил зло, и насмехались над ним, и били его, и кололи его… при этом они приговаривали: «Вы повесили моего отца», «вы силою овладели моей женой!». А женщины, дочерей которых он взял силой, дергали его за бороду и так подвергали его постыдным мучениям, что, когда они прошли весь город из конца в конец, на его костях не осталось ни куска живого мяса, а потом они взяли его кости и бросили их на свалку[346].
Неслучайно и кастрация в византийской традиции часто рассматривалась как знак добровольного или вынужденного отказа от претензий на власть. Так, рассказывая о паракимомене Василии, приближенном Василия II Болгаробойцы (958-1025), Михаил Пселл отмечал:
С отцом Василия и Константина у него был общий родитель, но разные матери. Из-за этого его уже в раннем детстве оскопили, чтобы сын сожительницы при наследовании престола не получил преимущества перед законными детьми. Он смирился с судьбой и сохранял привязанность к царскому и, следовательно, своему роду. Но особое расположение он чувствовал к племяннику Василию, нежно его обнимал и пестовал, как любящий воспитатель. Потому-то Василий и возложил на него бремя власти и сам учился у него усердию. И стал паракимомен как бы атлетом и борцом, а Василий — зрителем, но целью царя было не возложить венок на победителя, а бежать за ним по пятам и участвовать в состязании.[347].
Похожая ситуация обыгрывалась и в «Слове о преподобном Моисее Угрине», являвшемся составной частью Киево-Печерского патерика, созданного под явным влиянием византийской традиции. Главный герой рассказа, попав в плен и оказавшись в Польше, подвергся домогательствам «одной знатной женщины, красивой и молодой, имевшей богатство большое и власть». Она предложила Моисею не только освободить его, но сделать своим возлюбленным, мужем и господином над всеми ее владениями. Он же категорически от всего отказывался: «Твердо знай, что не исполню я воли твоей; я не хочу ни власти твоей, ни богатства, ибо для меня лучше всего этого душевная чистота, а более того телесная». Перепробовав многие средства, но так и не сумев склонить Моисея к сожительству, дама приказала кастрировать его: