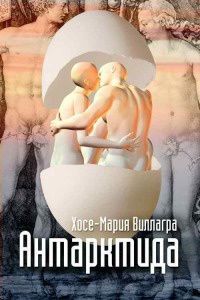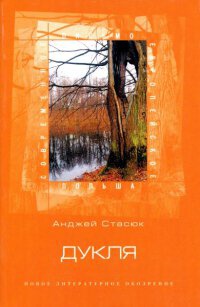Книга Фабрика мухобоек - Анджей Барт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из окна над магазином высунулся атлетически сложенный мужик в майке:
– Черт побери! Да разве Христос допустил бы, чтоб мы позже всех узнали о его существовании, не будь у него насчет нас особых намерений? Наша задача – исправлять ошибки и убирать за теми, кто первыми взялись его прославлять, а теперь отвергают.
– Кстати, пан Яняк, напоминаю, что не стоит употреблять слово «черт» рядом с именем Христа, да еще в присутствии женщины. – Полицейский вроде бы шутки ради похлопал по баллончику с газом.
Старейший из присутствующих выразил сомнение в том, стоило ли принимать христианство:
– Мир уже возводил соборы, а мы ютились в лачугах из бревен и соломы. Остались бы в свое время при Святовите[36], который не зря на все четыре стороны света глядел, нас бы, по крайней мере, уважали за оригинальность. Искусство, господа, вот что самое главное. Пикассо у негров вон сколько наворовал, значит, и у Святовита нашел бы чем поживиться.
Слушать это было невмоготу. Они компрометировали не только себя, но и Польшу. И в этом принимал участие государственный служащий. Хоть все они и были плодами моего больного – возможно, неизлечимо больного – воображения, мне нестерпимо захотелось обнажить саблю. Перед мысленным взором замаячила висевшая в доме деда Антония картина, на которой был изображен князь Юзеф, с гордым видом бросающийся в воды Эльстеры[37]. Я шагнул вперед и потянул Дору за руку:
– Пойдем отсюда, это не для тебя компания.
– Надо понимать, это ваш знакомый? Иначе я б ему врезал – костей бы не собрал.
Мне понравилось, что, даже будучи разоблачены как фантомы, они до конца держали фасон.
– Спасибо за интересную беседу, – сказала Дора и одарила новых знакомцев чарующей улыбкой.
Все как один галантно склонили головы, а юнец, которому не доставало сил разлепить веки, даже приподнял руку.
– Прости, что бросила тебя спящего, но я не могла там дольше выдержать… А этих людей ты неправильно понял. Они всего-навсего процитировали фразу Пушкина о том, как плохо родиться в неподходящем месте, потому что перед тем я им призналась, что в Праге мечтала о Берлине. Потом в мою честь инсценировали фрагмент о России из «Философических писем Чаадаева». Возможно, кое-что переврали, а ты обиделся… ну а когда пришел полицейский, совсем запутались… Они хотели сделать мне приятное, потому что знали моего отца, он ведь тут жил. Отец написал о России много книг, а его друг, наш президент Масарик, когда заходила речь о Восточной Европе, часто обращался к нему за советом.
Начавшее пригревать солнце спряталось за тучи, но было тепло. Я обнял Дору за плечи, и мы пошли на север. Как образцовый псих, я быстро подсчитал, что, двигаясь со скоростью пять километров в час, через шестьдесят часов покажу ей море.
– Отец не мог снести унижения. Твердил, что должен заботиться о нас с мамой, но у самого желание жить пропало. Не покончил с собой, как его друг, профессор Хлавны, но вдруг начал писать кровью. А ведь у него даже насморка никогда не бывало. – Она зарделась и стала еще краше. – И через неделю умер, хотя врачи делали все, чтобы его спасти. Где-то здесь должна быть эта больница.
Только тут я сообразил, чту ей предстоит увидеть, пока мы дойдем до моря. Больница, довоенная жемчужина лодзинского ар деко, так красиво выглядевшая на фотографиях гетто, превратилась в руины, откуда унесли все, что только годилось на продажу. Я мог лишь надеяться, что Дора не узнает этого места и равнодушно пройдет мимо груды развалин. А на случай, если бы узнала, я заготовил рассказ о бомбардировке больницы на протяжении трех дней и трех ночей: мол, немцы обороняли Лодзь до конца, превратив ее в Festung Litzmannstadt[38]. В доказательство того, что так бывало в других городах, достаточно будет показать ей в книжном магазине роман «Festung Breslau». Однако я предпочел третий вариант. Повернул обратно.
Регина вспомнила свое первое выигранное дело: Кудановский против финансового управления. После того процесса она совсем по-другому начала входить в зал суда. Вот и Борнштайн, нанеся чувствительный удар прокурору, стал двигаться совершенно иначе; кажется, он даже похорошел – если про него можно было такое сказать. И настолько осмелел, что рискнул напасть на судью.
– Полагаю, сейчас самое время задать вашей чести вопрос, – сказал он. – Я не вижу здесь ближайших сотрудников господина председателя. Где те, кто распоряжался в гетто, когда мой клиент фактически отошел от дел? Почему перед нами не стоит печально известный Марек Клигер? Где Давид Гертлер, который, начиная с сорок второго года, принимал все решения, раздавал награды и устраивал проверки, а председателя выставлял вперед, когда надо было объявить о депортации? У старика еще могли оставаться иллюзии, что власть по-прежнему у него в руках, в его честь еще устраивались торжественные собрания. Про Гертлера говорят, что он выдавал гестапо богатых евреев, – разве такого человека не следует привлечь к суду, ваша честь?
Регина видела, что Хаима покоробило слово «старик», однако судья, выглядевший еще старше него, невозмутимо разъяснил:
– Мы здесь не для того, чтобы осуждать все существующее в мире зло. Защита, вероятно, заметила отсутствие многих виновников страшных преступлений. Мы ограничились вашим председателем, поскольку он стал своего рода символом, но при этом, как и большинство из вас, является жертвой. Впрочем, если защита считает, что нам недостает сильных эмоций, я готов… Попрошу присутствующих вести себя сдержанно. Никаких криков в зале… Я пригласил к нам Ганса Бибова. Зная его немецкую педантичность… он появится примерно через тридцать секунд… Кто хочет со мной поспорить?
Кроме Хаима, в зале не было человека, который бы не повернулся к двери. Только двое посмотрели на каким-то чудом сохранившиеся у них часы. Когда вошел мужчина с обвязанной шеей, воцарилась гробовая тишина. За завтраком Регина едва его узнала, а сейчас он еще имел наглость ей поклониться…
– Учтите, господин Бибов, я много о вас знаю, – произнес судья. – Для начала расскажите о себе что-нибудь хорошее, например, какой вы благородный человек.
– Не смею так о себе говорить, но… в среде торговцев в Бремене я пользовался уважением, это факт. Да и в Лодзи старался самым добросовестным образом исполнять свои обязанности. – Бибов говорил невнятно, но спокойно.