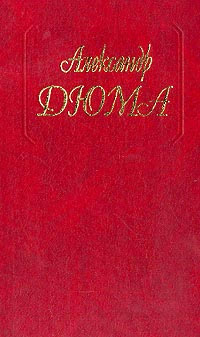Книга Каторжная воля - Михаил Щукин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Снова поставили горячий чугун на живот Черкашину. Боль от тепла, видимо, затихла, и бедолага, измученный до края, даже ничего не сказал, а только слабо помахал рукой, показывая, что чугун надо убрать, и сразу же засопел.
Осторожно, чтобы его не разбудить, Федор прошел к шкафчику, нашарил на верхней полке пятак и долго разглядывал его, подойдя к окну, за которым светало. Пятак как пятак, если не считать двух маленьких дырок, аккуратно просверленных сверху и снизу. Федор крепко зажал пятак в кулаке и торопливо выбежал из дома.
Базар, несмотря на столь ранний час, был уже многолюдным и глухо шумел, как шумит сосновый бор при крепком ветре. Торговал, зазывал, нахваливал, ругался, приворовывал, обманывал… Громоздились кадушки, мешки, корзины, кошелки, а в них – чего только душа пожелает: мясо, рыба, мед, ягоды, огурцы, яйца, молоко и творог. Не скупись, выкладывай денежку и кушай сытно, сладко – от пуза. Пропитания на базаре на всех хватит. Но Федор даже не глянул в сторону торговых рядов, прямиком – к коновязи, где уже стояли коляски извозчиков.
Нужного ему Герасима нашел без труда. Подошел поближе, и для начала, без всяких слов, показал пятак. Герасим прищурился, скосив глаз, и перехватил вожжи. Сказал коротко и негромко:
– Присаживайся, поскачем.
И покатилась коляска, оставляя базар позади, в восточную сторону, где сразу же за крайними домами начиналась полевая дорога. Проехав по ней с половину версты, Герасим остановил коня, положил вожжи себе на колени, поскреб бороду корявыми пальцами, измазанными в дегте, и лишь после этого присвистнул – длинно, с переливами, совсем по-птичьи. Присвистнул и замолчал, прислушиваясь, чего-то дожидаясь. И дождался. Из ближней к дороге кучки берез ему отозвалась невидимая в листьях птичка. Отозвалась и просвистела так же, как Герасим, длинно и с перерывами.
– Вот, слышишь, – Герасим поднял вверх палец, – меня даже птички в окрестностях знают. А уж в городишке нашем – говорить нечего. Не дело нам с тобой в людном месте толковать, мало ли чего отчебучишь, какое коленце выкинешь. Отсюда и уговор, если осечка какая – я тебя в глаза не видел, знать про тебя не знаю и в рожу еще плюну, что поклеп на меня, честного человека, возводишь. Согласен?
– Не боись, клепать не стану, – заверил его Федор, – да и рано ты этот разговор завел, я еще ни слова не сказал.
– А уговор он никогда не мешает, уговор он на берегу должен быть. Я тебя вчера, когда к Черкашину доставил, сразу подумал – не в гости парень приехал. Сам-то Черкашин не помер еще?
– Живой, живой.
– Вот и ладно, пускай коптит, глядишь, и пятачок не раз понадобится. Мне с этого пятачка большая польза приходит. Теперь говори – какая у тебя нужда и чего я сделать должен.
Герасим выслушал Федора и сразу же, не раздумывая, кивнул:
– Будет тебе дудка, будет и свисток. Деньги – вперед.
2
Газета, забытая кем-то из пассажиров, упала со скамейки на палубу, шевелилась от легкого дуновения ветерка и большущими буквами на первой полосе извещала: «В текущую навигацию между Томском, Барнаулом и Бийском вступили вновь выстроенные пароходы «Богатырь», «Двигатель» и «Воткинский завод», американского типа, роскошно отделанные со всеми новейшими усовершенствованиями и двухскатными помещениями на верхней палубе. Все удовольствия для господ пассажиров!»
«Богатырь» будоражил обскую воду, оставлял за кормой крутые волны с белыми барашками, и упорно одолевал могучее течение. Час был еще ранний, солнце только поднялось над прибрежными ветлами, и речная гладь переливалась алыми отблесками. Одинокая чайка, высматривая утреннюю добычу, низко носилась над волной и казалась не белой, а розовой. От воды наносило прохладной свежестью, и Звонарев, выйдя из каюты на палубу в одной рубашке, зябко передернул плечами. Потянулся, раскинув руки, прищурился, глядя на солнце, засмеялся тихонько и даже головой помотал от полного удовольствия. В теле кипело столько молодой силы, что он, будь такая возможность, нырнул бы в Обь, не раздумывая, и плыл бы, плыл, одолевая, как пароход, упругое течение. И сил ему хватило бы на много верст. Он в этом ни капли не сомневался. Да и как может сомневаться человек, когда душа его до самых краев заполнена счастьем? Это счастье в последнее время жило в нем постоянно, не покидая даже на одну минуту, и он никак не мог к нему привыкнуть. Казалось, и мир вокруг изменился, и смотрел он сейчас на него иным, изменившимся зрением, и видел многое, на что раньше не обратил бы внимания. И чайка, окрашенная в розовый свет, и расходящиеся от парохода волны с белыми барашками, и старый тополь, недавно рухнувший в воду, еще украшенный зеленой листвой, и высокий песчаный яр вдали – все вызывало у него умиление и радость.
Э-э-эх! Легко, играючи он встал на руки, ощущая ладонями прохладу железной палубы, и пошел на руках, продолжая радоваться, теперь уже собственной силе и ловкости. Но пройти далеко Звонарев не успел, потому что раздались редкие одобрительные хлопки, и он сразу же догадался, кому принадлежат эти жиденькие аплодисменты. Встал на ноги. Ну, так и есть! Грехов и Родыгин, усмехаясь, стояли чуть в отдалении и продолжали хлопать в ладоши.
– Подглядывать, между прочим, неприлично, – скрывая смущение, выговорил Звонарев, – вам в детстве родители такое не говорили?!
– Меня родители учили радоваться чужому счастью, – ответил ему Грехов, – вот и восторгаюсь, и заметь, без всякого чувства зависти.
– Слушай, помолчи! Смотри, какое утро, не отравляй его своим ехидством!
– Вот она, человеческая неблагодарность! Родыгин, нам следует обидеться и сойти на первой же пристани. Вернуться в Ново-Николаевск и весело прогулять заслуженный отпуск. Тогда никто нас не упрекнет в ехидстве и в подглядывании. Возвращаемся, Родыгин?
– Нет, – серьезно отвечал ему Родыгин, – возвращаться я не намерен и сойду с этой посудины только в Бийске. Слово, данное моему товарищу, я блюду свято и не нарушу. А теперь заканчивайте состязаться в вашем скудном остроумии и быстро спускайтесь в каюту. Вдруг уважаемое семейство выйдет пораньше, чтобы полюбоваться восходом, а мы встретим их в расхристанном виде, даже неумытые. Стыдно будет. Пошли, пошли.
И первым отправился в каюту. Грехов, вздохнув, последовал за ним, а замыкающим, с сожалением оглядываясь на реку, шел Звонарев.
В каюте, толкаясь и мешая друг другу, с шутками и с хохотом, друзья привели себя в надлежащий вид и на завтрак в буфет явились в полной красе. А навстречу им, сияя улыбкой и широко распахнутыми счастливыми глазами, уже летела Ангелина, и зеленая ленточка на легкой соломенной шляпке струилась и взлетала, как от ветра.
– Доброе утро, господа! – зазвенел ее приветливый голос. – Как вы спали?
Обращалась Ангелина, казалось бы, ко всем троим, но смотрела только на Звонарева, и ясно было, что только ему предназначались и сияющий взгляд, и приветливый голос.
– Спали замечательно. – Звонарев не отводил глаз от Ангелины. – А как ты?
– Наш сердечный друг, – не удержался и влез в разговор Грехов, – всю ночь бормотал чье-то женское имя, признаваясь в любви. Я это имя позабыл, вы не напомните, Ангелина?