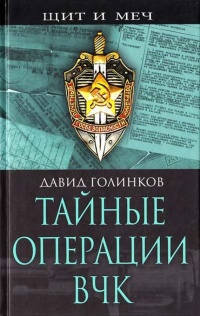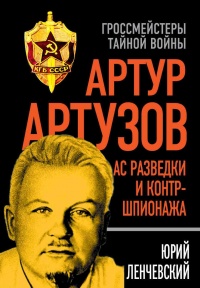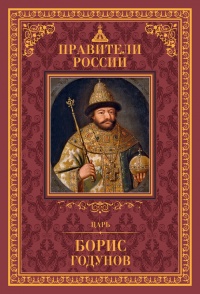Книга Воспоминания террориста - Борис Савинков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В государственном вопросе партия социалистов-революционеров стоит на точке зрения европейской социал-демократии, проповедующей участие рабочего народа в государственном управлении посредством выборов в парламент. Наша партия, как и социал-демократы, выставляет в настоящее время требование всеобщего избирательного права и очень далека от анархистского отрицания блага государственного народоуправления. Я могу указать на программу, опубликованную в одном из номеров “Революционной России”, а также на заявление по случаю убийства Плеве, в котором она явно отграничивает себя от анархистов, повторяя заявление “Народной воли”».
Протест этот Сенатом уважен не был, и в понедельник, 9 мая, Каляев был перевезен на полицейском пароходе из Петропавловской крепости в Шлиссельбург. В ночь на 10 мая, около 10 часов вечера, его посетил священник, о. Флоринский. Каляев сказал ему, что хотя он человек верующий, но обрядов не признает. Священник ушел. Во втором часу ночи, когда уже светало, Каляева вывели на двор, где чернела готовая виселица. На дворе находились представители сословий, администрация крепости, команда солдат и все свободные от службы унтер-офицеры. Каляев взошел на эшафот. Он был весь в черном, без пальто, в фетровой шляпе.
Стоя неподвижно на помосте, он выслушал приговор. К нему подошел священник с крестом. Он не поцеловал креста и сказал:
– Я уже сказал вам, что я совершенно покончил с жизнью и приготовился к смерти.
Место священника занял палач Филиппов. Он набросил веревку и оттолкнул ногой табурет.
Похоронен Каляев за крепостною стеною, между валом, окаймляющим крепость со стороны озера, и Королевской башней.
Вечером 4 февраля я уехал из Москвы в Петербург. Куликовский вышел из состава организации. Дора Бриллиант уехала в Харьков. Моисеенко, продав лошадь и сани, присоединился к ней.
В Петербурге я увидел Швейцера. Он подтвердил то, что раньше, в Москве, рассказывал Тютчев. Петербургский отдел, ослабленный арестом Маркова и Басова и исчезновением Саши Белостоцкого, медленно собирал сведения о Трепове. Наблюдение еще было далеко не закончено, и убить Трепова не было никакой возможности. Зато Швейцер имел сведения о выездах великого князя Владимира Александровича. Сведения эти были проверены наблюдением, и Швейцер решил сосредоточить все силы на этом неожиданно новом деле. Он сообщил мне о своем решении, и я одобрил его. Тогда же Швейцер рассказал мне о положении дел в Киеве.
Боришанский и супруги Казак к концу января установили выезды Клейгельса и решили приступить к покушению. Супруги Казак, по причинам мне неизвестным, участия в нем не приняли. Боришанский остался один. Он сам зарядил свою бомбу и вышел с ней на Крещатик. Он ждал там около часа, но Клейгельс не появился. Тогда он вернулся к себе в гостиницу. Впоследствии оказалось, что Клейгельс выехал на несколько минут позже, и, не уйди Боришанский, генерал-губернатор был бы тогда же убит. Боришанский еще оставался в Киеве, но было мало надежды, что он справится один со своей задачей.
Несмотря на потерю Каляева, на неудачи Швейцера и на полное расстройство киевского отдела, Боевая организация представляла собой в то время крупную силу. Убийство Плеве и затем убийство Сергея создали ей громадный престиж во всех слоях населения, правительство боялось ее, партия считала ее своим самым ценным учреждением. С другой стороны, реальные силы организации были для тайного общества несомненно очень велики. В ее рядах был такой даровитый и теперь уже опытный организатор, как Швейцер; самый кадр ее состоял из людей, хотя и слабых численностью, но испытанных и скрепленных между собой любовью к организации, долговременным опытом и преданностью террору, таких людей, как Дора Бриллиант, Моисеенко, Дулебов, Боришанский, Ивановская, Леонтьева, Шиллеров и др. Денег было довольно, в кандидатах в Боевую организацию тоже не было недостатка, наконец, – и это самое главное, – мы были накануне нового, не менее крупного, чем дело Сергея, покушения – покушения на великого князя Владимира. Можно с уверенностью сказать, что к этому времени организация окончательно окрепла, отлилась в твердую форму самостоятельного и подчиненного своим собственным законам отдельного целого, т. е. достигла того положения, к которому, естественно, стремится каждое тайное общество и которое единственно может гарантировать ему успех. Сознание этого основного успеха не покидало нас; в это время и Швейцер, несмотря на свои неудачи, твердо верил в будущее террора.
Убедившись, что в моем присутствии в Петербурге нет необходимости, я решил поехать в Женеву, чтобы посоветоваться с Гапоном и Азефом о дальнейших боевых предприятиях. Я попросил Ивановскую съездить к Моисеенко и Бриллиант в Харьков, сообщить им о моем отъезде и предложить подождать моего возвращения. Тогда же в Петербурге я в последний раз встретился с Татьяной Леонтьевой. Белокурая, стройная, со светлыми глазами, она по внешности напоминала светскую барышню, какою она и была на самом деле. Она жаловалась мне на свое тяжелое положение: ей приходилось встречаться и быть любезной с людьми, которых она не только не уважала, но и считала своими врагами, – с важными чиновниками и гвардейскими офицерами, в том числе со знаменитым впоследствии усмирителем Московского восстания, тогда еще полковником Семеновского полка, Мином. Леонтьева, однако, выдерживала свою роль, скрывая даже от родителей свои революционные симпатии. Она появлялась на вечерах, ездила на балы и вообще всем своим поведением старалась не выделяться из барышень ее круга. Она рассчитывала таким путем приобрести необходимые нам знакомства. В этой трудной роли она проявила много ума, находчивости и такта, и, слушая ее, я не раз вспоминал о ней отзыв Каляева при первом его с ней знакомстве: «Эта девушка – настоящее золото».
Мы встретились с ней на улице и зашли в один из больших ресторанов на Морской. Рассказав мне о своей жизни и о своих планах, она робко спросила, как было устроено покушение на великого князя Сергея. В нескольких словах я рассказал ей нашу московскую жизнь и самый день 4 февраля, не называя, однако, имени Каляева. Когда я окончил, она, не подымая глаз, тихо сказала:
– Кто он?
Я промолчал.
– «Поэт»?
Я кивнул головой.
Она откинулась на спинку кресла и вдруг, как Дора, 4 февраля, неожиданно зарыдала. Она мало знала Каляева и мало встречалась с ним, но и эти короткие встречи дали ей возможность в полной мере оценить его.
В Леонтьевой было много той сосредоточенной силы воли, которою была так богата Бриллиант. Обе они были одного и того же – «монашеского» – типа. Но Дора Бриллиант была печальнее и мрачнее; она не знала радости в жизни, смерть казалась ей заслуженной и долгожданной наградой. Леонтьева была моложе, радостнее и светлее. Она участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, – с радостным сознанием большой и светлой жертвы. Я убежден, что, если бы ее судьба сложилась иначе, из нее выработалась бы одна из тех редких женщин, имена которых остаются в истории как символ активной женственной силы.