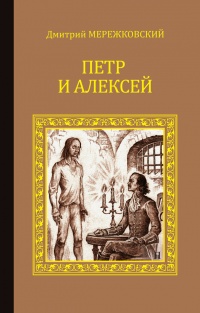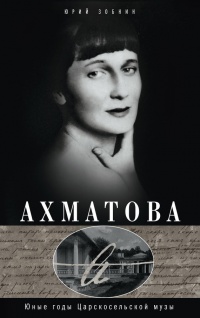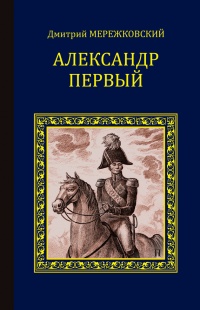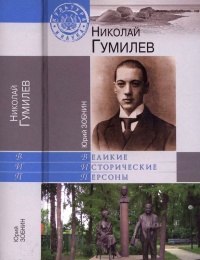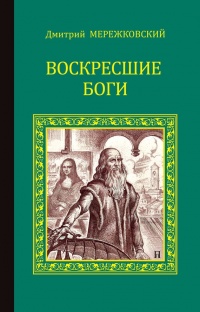Книга Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вечером – визиты, гости, иногда театр или литературные собрания. На людях он подчеркнуто корректен, подтянут, собран. Затем – ужин и ранний сон.
Привычки его постоянны, и распорядок дня упорядочен настолько, что по нему можно проверять часы. В быту он очень нетребователен, но исключительно аккуратен и до педантичного точен: неряшество и неорганизованность его раздражают. Непрошеных визитеров он не переносит, препоручая все незапланированные контакты с «внешним миром» жене: «Зина! Ко мне пришел какой-то человек. Поговори с ним, я с ним говорить не могу». Вообще Гиппиус скоро оказывается de facto в роли его доверенного лица, управляющего, референта и секретаря, причем к ее собственной (и очень интенсивной) литературной работе он относится с патриархальной эгоистичностью – сказывается отцовская кровь.
Английская мудрость «мой дом – моя крепость», к сожалению, мало востребованная на русской почве, находит редкого приверженца в Мережковском. Это, впрочем, странным образом аукнулось ему уже во мнениях современников.
«Восторженный и чистый душою Мережковский, – пишет Суворину Чехов в 1892 году, – хорошо бы сделал, если бы свой quasi-гётевский режим, супругу и „истину“ променял на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину. Сердце билось бы лучше». Если уж Чехов, отнюдь не симпатизирующий «богеме», высказывал подобные рекомендации, что же говорить об остальных. И стоит ли удивляться тому, что Василий Васильевич Розанов, в общем расположенный к Мережковскому, весьма изящно объяснил «странности» «друга Мити» тем, что Мережковский не русский, а европейский писатель.
Это понравилось, и с легкой руки Василия Васильевича по бесчисленным страницам критических статей и литературоведческих исследований пошло гулять определение, ставшее своего рода «палочкой-выручалочкой» для каждого, натыкавшегося на «трудные моменты» в судьбе и творчестве Мережковского: он же европеец, а с европейца в России и спрос иной. Что возьмешь с европейца?
В конце концов возмутилась Гиппиус.
«Он был очень далек от типа русского писателя, наиболее часто встречающегося, – пишет она в воспоминаниях о муже. – Его отличие и от современников, и от писателей более старых выражалось даже в мелочах: в его привычках, в регулярном укладе жизни и, главное, работы. Ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью… я бы сказала – ученого. Он исследовал предмет, свою тему со всей возможной широтой, и эрудиция его была довольно замечательна… Ему, конечно, много помогало прекрасное знание языков, древних, как и новых. Для меня удивительная черта в его характере – было полное отсутствие лени. Он, кажется, не понимал, что это такое. Все это вместе взятое и отличало его от большинства русских писателей, заставляло многих из них звать его „европейцем“. Гениальный самородок – писатель В. Розанов, русский из русских до „русопятства“ (непереводимый термин), для которого писание, как он говорил, было просто и только „функцией“, уверял даже, что, видя Мережковского на улице, когда он гуляет, каждый раз думает: вот идет „европеец“. Да, таким русским, как Розанов, сыном „свиньи-матушки“ (как называл Россию), – Мережковский не был. Но что он был русский человек прежде всего и русский писатель прежде всего – это я могу и буду утверждать всегда. Могу – потому что знаю, как он любил Россию, – настоящую Россию, – до последнего вздоха своего, и как страдал за нее…»
В этом споре о «русскости» или «европообразности» Мережковского (споре очень громком и по сей день), конечно, на первый взгляд немало странного. Действительно, можно ли, по крылатому суворовскому выражению, ставить под сомнение то, что Дмитрий Сергеевич «не немец, а природный русак», – потому лишь только, что он не пил запойно, много и систематически работал, обладал широким кругозором и знанием языков? И потом, нужно ведь учитывать: всю жизнь Мережковский живет своим трудом, все его благополучие (и не только личное, но и благополучие жены и ее родных) прямо зависит от его гонораров. А между тем, вплоть до конца 1900-х годов, его отношения с издателями, мягко говоря, не самые лучшие, так что литературное «ремесло» долгое время едва позволяло ему сводить концы с концами. «Это был русский – и, можно сказать, европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший – в крайней бедности», – пишет Гиппиус. Если судить по сохранившимся эпистолярным свидетельствам, особого преувеличения здесь нет.
«Теперь мы в ужасном, небывалом положении, – сообщает Гиппиус в одном из писем 1894 года. – Мы живем буквально впроголодь вот уже несколько дней и заложили обручальные кольца» (в следующем письме она сетует, что… не может пить прописанный врачами кефир, – нет денег).
Сам Мережковский, все время занимавший и перезанимавший мизерные суммы у состоятельных знакомых, искренне ликует, получив значительную ссуду у П. П. Перцова: «Теперь, по крайней мере, благодаря Вашей помощи я могу спокойно работать несколько месяцев, а это уже много для меня значит». В письме издателю «Скорпиона» С. А. Полякову он, оговорив условия, застенчиво прибавляет в конце: «…Нельзя ли мне выслать по возможности все деньги за обе книги или теперь же в июле, или в течение августа… Дело в том, что я собираюсь поехать на сентябрь в Крым, чтобы немного отдохнуть и поправиться, и эти деньги мне нужны для поездки… Пожалуйста, окажите мне эту услугу! А я со своей стороны готов всячески стараться для „Скорпиона“» (заметим, что писано сие в 1903 году, когда Мережковский становится известен не только в России, но и за рубежом).
«Он очень радовался, когда удавалось пристроить ту или иную книгу в какой-нибудь стране, – пишет Гиппиус, – радовался и тому, если за нее хорошо было заплачено (постоянной нашей бедностью он очень тяготился, выдавать его за особого героя или святого, довольного своей нищетой, я вовсе не намерена)».
Он живет своим трудом, количеством написанного, но, заметим, не превращается в ремесленника, более того – никогда не позволяет себе работать «на публику», заниматься тем, что сейчас называют туманным словом «конъюнктура», а в добрые советские времена звали попросту «халтурой».
«Литературная политика создавала ему врагов, особенно в петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видел писателя менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще» (М. А. Алданов). Он всегда искренно увлечен разрабатываемой тематикой, может часами говорить о том, над чем сейчас работает. (Чем, кстати, также раздражает «братьев-писателей». Это сразу заметил во время своих первых визитов в петербургские литературные салоны проницательный Брюсов, не без злорадства фиксировавший в дневнике: «…Говорят, это… лучший вечер, ибо не было Мережковского. А то он терроризирует все общество… Старики молчат, боясь, что он забьет их авторитетами и цитатами, ибо они не очень учены, старички-то; молодежь возражать не смеет и скучает…») «Работник он был необыкновенный, – вспоминает Алданов. – Трудился всю жизнь, не отдыхая: только кончал одну книгу, как начинал другую. Лишь очень редко позволял себе две-три недели отпуска, где-нибудь в теплых краях». «Его производительная способность феноменальна», – подтверждает и В. А. Злобин.
Нет, конечно, было бы странно отказывать Мережковскому в «русском начале» только потому, что он умел и любил работать, и если бы только в этом было дело, то о жупеле «европейца» не стоило бы и говорить. Однако очень существенно, что за насмешками над «quasi-гётевским режимом» Мережковского скрывается и неприятие идейной позиции, которую он занимал в 1890-е годы.