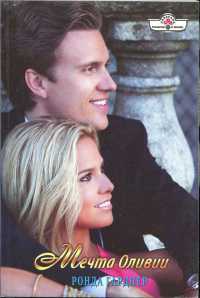Книга Тонкие струны - Анастасия Баталова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Thank you… – выдохнула она глухо, нервно, и, резко развернувшись, бросилась в сторону отеля. Ей были ослепительно ясны теперь и тот многослойный ступенчатый цвет, и та тайная степень прозрачности мазков, и та завораживающая глубина объема, когда, кажется, изображение выступает из плоскости картины…
Лишь кисть могла говорить теперь, слова утратили всякую силу.
Амаранта лихорадочно принялась писать.
Она работала несколько дней не выходя из номера и не отвечая на звонки. Периоды удовлетворения сменялись приступами отчаяния от невозможности перенести на полотно всё доступное воображению. Каждый положенный мазок вызывал в Амаранте мучительное сомнения – можно ли было положить его лучше, точнее, выразительнее. Уставая бороться с собой, она просто закрывала глаза.
Рудольф Дорден тоже начал писать новую картину; она стояла у него в номере на мольберте, и любопытные товарищи под разными предлогами пытались войти к нему, чтобы хоть на миг застигнуть таинство рождения шедевра. Все были уверены, что очередное творение прославленного живописца встанет в конец ряда его работ, блистательно восходящих всё выше и выше по лестнице мастерства… Дорден всегда говорил, что каждым мазком художник должен неотступно приближаться к Богу. Он легко разгадывал все хитрости, посредством которых товарищи пытались взглянуть на картину, и, позволяя гостям проникнуть в номер, никогда не забывал набросить на незаконченное полотно плотную чёрную ткань.
4
«Купающийся мальчик» был почти закончен, оставалось прояснить незначительные детали фона; Амаранта торопилась и львиную долю своего творческого напряжения вложила именно в фигуру юноши, отнесясь к морскому пейзажу без должного прилежания. Она, однако, не могла успокоиться. Написанное ни в коей мере не унимало того волнения, что поселил в ней юный сын рыбака; глядя на картину, Амаранта с тревожным болезненным чувством осознавала, что на ней не хватает последнего мазка, того самого, в котором и будет содержаться божественное озарение – она целыми днями предавалась унынию по поводу того, что ей ни за что не удастся положить его. Она уже неоднократно подходила к картине с намерением сделать это, но всякий раз рука с кистью бессильно опускалась. Незримый дух «Купающегося мальчика» оставался неуловимым.
Амаранта полагала, что новая встреча с сыном рыбака сможет помочь ей; она несколько дней кряду караулила его на дороге с раннего утра, но когда свидание, наконец, состоялось, ею было испытанно весьма неожиданное огорчение.
Мальчик испугался художницы. Завидев её издалека, он резко остановился и принялся настороженно озираться по сторонам, точно ища куда бы спрятаться или высматривая прохожих, которые в случае чего могли бы вступиться за него. Вероятно, мир высокого искусства был настолько недоступен его воображению, что несчастный мальчуган решил, будто Амаранта сумасшедшая, а от людей, которые не в ладах с рассудком, как известно, лучше держаться подальше. Тем более всем своим видом художница способна была подобное заблуждение укрепить – у неё горели глаза, тряслись руки – да и сам факт, что женщина, годящаяся юноше в матери или даже в бабушки, ходит за ним по пятам бледнея, краснея, трепеща сердцем невозможно было принять без столкновения с каким-то незыблемым барьером в сознании… Всё это выглядело странно, дико и, пожалуй, внушало отвращение…
Впервые осознав то впечатление, которое производили её попытки сблизиться с сыном рыбака на окружающих, Амаранта была шокирована. Пару раз, когда она выходила из отеля прогуляться по причалу, ей случалось ловить на себе заинтересованные насмешливые взгляды, но она не придавала им особого значения. Теперь, когда мозаика сложилась, и Амаранте стал понятен скрытый смысл всех этих переглядываний, ухмылочек, шепотков за спиной, она увидела истинную глубину своего падения…
Эрос, о котором без умолку говорил Дорден, действительно имел место; он и был той самой необоримой загадочной стихией, что вышвырнула Амаранту в её незавершённое пока творческое странствие. Но сама художница, увлекшись поиском нужного языка полутонов и объёмов, до определённого момента не замечала этого эроса, зато его видели все остальные, и каждый норовил придать ему совершенно конкретный земной дорденовский смысл.
Так в одно прекрасное тихое солнечное утро, когда она сидела на террасе кафе, откуда видна была дорога, этот смысл стал тошнотворно ясен и самой Амаранте. Вглядываясь в плетённые узоры теней древесных крон, лежащие на песке, она ждала появления из-за поворота знакомой стройной фигурки. Всё существо её мучительно напряглось, приготовившись к этому таинству – к нескольким минутам наблюдения издалека – пока мальчуган, таща тележку, преодолевает доступный её взору отрезок своего пути… Теперь она не смела к нему приближаться. И эти утренние мгновения в кафе, когда он спускался из деревни к морю, составляли её единственную отраду.
Тени листвы скользили по его гладким загорелым плечам, по полам большой панамы, которую он иногда надевал; замирая и целиком обращаясь во взор, Амаранта находила в движениях юноши всё больше и больше новых непередаваемо изящных изгибов; каждая подобная одностороння встреча – несчастная художница это чувствовала – одновременно и приближала её к роковому божественному мазку и низвергала в бездонный болезненный ад отчаяния неутолимой страсти…
Ей исполнилось пятьдесят лет, а ему – она, понятно, никак не могла узнать его точный возраст – но во всяком случае вряд ли младшему сыну рыбака было больше шестнадцати, скорее – меньше… Религия утверждает, что все мы (люди) изначально грешны и продолжаем грешить всю жизнь, потому земные тела наши дряхлеют, дурнеют и разлагаются. Форма постепенно приводится в соответствие с содержанием… Юность кажется нам безусловно прекрасной, ибо она есть форма, ещё не испорченная содержанием, то есть грехом.
Сын рыбака проходил мимо каждое утро со своей неизменной тележкой, в которой лежали снасти, жёлтые, пропахшие цветущей водой и солью, точно высохшие водоросли – и как будто бы жаркое солнце проплывало прямо перед лицом Амаранты, опаляя и желанно, и невыносимо. Сознательно вожделеть его было бы святотатством, а не вожделеть вовсе было невозможно, ибо он выражал собою совершенную цельную законченную мысль природы – юный мужчина, ещё сохранивший черты ребёнка, ясные и чистые – его лучезарная красота вызывала у художницы иррациональное истерическое желание броситься на колени и молить его… Молить о высочайшей милости прикосновения, и тут же каяться, тут же клясть себя за столь же неизбежное, сколь и кощунственное эротическое настроение…
Три недели спустя Рудольф Дорден закончил свою картину и по этому случаю пригласил художников на небольшую вечеринку к себе в номер. Виновница торжества, установленная на мольберте, была по-прежнему занавешена чёрной тканью. Казалось, даже воздух в комнате был наэлектризован нетерпением гостей; несмотря на раскрытые окна и балкон, было нестерпимо душно, собиралась гроза.
В самый разгар веселья, когда первый озорной хмель успел уже нарумянить лица присутствующих, Дорден со свойственной ему театральностью сдёрнул покров с картины.
«Актриса на диване» предстала перед возбуждёнными зрителями. И в этот момент потемневшее небо над морем пересекла невиданно яркая голубая молния; вслед за нею по побережью тяжёло и долго прокатился гром.