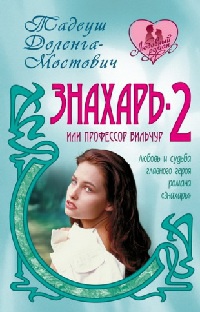Книга Храм - Стивен Спендер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Независимо от того, высказал Пол все это Эрнсту или нет, чувство, что он как-то поделился с ним своим пониманием философии Уилмота, возобладало в тот вечер, когда они гуляли по берегу, где солнце уже настолько приблизилось к горизонту, что, видимое сквозь полупрозрачно-серую пелену облаков, не слепило больше глаза. Взглянув прямо на солнце, Пол увидел ярко-красный, пылающий каменный диск. Он попытался смотреть на солнце, не видя больше ничего вокруг, исключив из своего поля зрения дернистое море и сушу, которая стала похожа на гигантского чешуйчатого спрута с мысами-щупальцами. Когда пылающий диск коснулся горизонта, он, казалось, перекосился и начал раздуваться по бокам, которые несколько секунд спустя затрепетали, словно, — подумал он, — вырванное пламенное сердце Улисса. А потом солнце вновь стало другим. Теперь, подумал он, оно напоминает шатер короля Генриха на поле из вышитой золотом парчи. Наконец, оно стало похоже на алый парус, гонимый за горизонт ураганным ветром. Накатили волны, потянули развевающийся парус за собой и отправили его ко дну, после чего Пол скорее почувствовал, нежели увидел, прозрачный свет, заливший ту часть небосвода кровью.
Они добрались до места, где расположился некий летний лагерь с палатками под деревьями. Одинокие обитатели палаток уже готовились ко сну. Внезапно лицо Эрнста просияло, и он окликнул девушку, стоявшую в сторонке.
— Привьет! Ах, привьет! Кого я видеть!.. Ты-то как сюда попала? — понизив голос, спросил он Ирми, которая уже приближалась к ним. На ней были белые шорты, белая рубашка и белые носки, видневшиеся над белыми спортивными тапочками. Улыбнувшись, она посмотрела мимо Эрнста прямо на Пола и сказала:
— Добрый вечер.
Он улыбнулся в ответ и негромко ответил:
— Привет.
— Ну что, попалась с поличным? С кем ты здесь? — игриво спросил Эрнст.
— Сама по себе, хотя здесь у меня есть друзья.
— Кто же этот Самапо Себе? Имя, похоже, восточное. Какой-нибудь господин из Сиама? Быть может, один из сиамских близнецов, причем наверняка лучший?
— Самапо Себе — это фирма «Балтийские туристские лагеря», которой этот лагерь принадлежит. На август я устроилась к Самапо Себе руководительницей лагеря. В конце августа я уезжаю в Гамбург.
— Может, завтра увидимся, если ты придешь сюда купаться, — сказал Пол.
— Извини, что приходится напоминать тебе, но на это нет ни малейшего шанса, — резко сказал Эрнст. — Похоже, ты забыл, что весь завтрашний день отнимет у нас поездка к Алерихам. А потом, вечером, ты, как я понимаю, должен возвращаться в Гамбург. Разве ты сам на этом не настаивал?
— Придется искупаться на рассвете, — произнесла Ирми голосом, мягким как перышко, едва коснувшееся щеки Пола.
— Тогда прощай, увидимся в Гамбурге, — сказал Эрнст и отвернулся.
На прощальную улыбку Пола Ирми ответила таким взглядом поверх удаляющейся фигуры Эрнста, словно свечой подала поверх невидимой сетки бадминтонный волан. Потом, уже почти в кромешной темноте, Эрнст с Полом зашагали обратно в гостиницу.
Не успели они отойти на значительное расстояние, как услышали доносящуюся из чащи соснового бора стрельбу, беспорядочные выстрелы.
— Что это? — спросил Пол.
— Юные недоумки, — нарочито небрежным тоном ответил Эрнст.
— Кого ты называешь юными недоумками?
— Они себя называют «Снайперами», — сказал Эрнст.
— В кого же их снайперские выстрелы направлены? — шутливо спросил Пол.
Эрнст заговорил серьезно.
— Боюсь, в Германии еще остались некоторые представители довоенного поколения, не осознающие, что война и в самом деле проиграна, что Германия потерпела поражение от союзников. Они считают, что немецким патриотам нанесли предательский удар в спину непатриотически настроенные евреи из международных финансовых кругов. К реакционерам, которые так считают, тянутся молодые авантюристы, головорезы, вроде тех, что стреляют сейчас там, в темноте.
— Но разве им не запрещено иметь огнестрельное оружие?
— Ну, этого никто толком не знает. Они объединяются в так называемые клубы, где учатся стрелять. Поскольку новая конституция Веймарской республики весьма либеральна, этим клубам разрешено превращаться в то, что равносильно неофициальным армиям. Им, похоже, разрешено заниматься самой настоящей военной подготовкой. Они строят планы великого пробуждения Германии, когда она возродится, дабы отомстить за себя и уничтожить своих врагов.
— Когда же это произойдет?
— Думаю, никогда. Республика слишком устойчива, да и немецкий народ настроен против войны, слишком много он потерял в той, последней. Народ восстал против милитаристов и реакционеров вроде Иоахимова дяди, генерала Ленца. К тому же французы с англичанами никогда не допустят существования милитаристской Германии.
В кромешной тьме прозвучала еще одна очередь винтовочного огня.
— Это и вправду все несерьезно? — спросил Пол.
— Ну, я бы так не сказал. Это угроза стабильности.
— Почему?
— Потому что они совершают политические убийства и к тому же апеллируют к самым гнусным предрассудкам некоторых немцев, — (слова «некоторых немцев» Эрнст произнес почти так, точно считал немцев иностранцами), — таким, например, как антисемитизм.
— Кого же они убили?
— Вальтера Ратенау, еврейского финансиста и либерального политика — великого человека, который был очень нужен Германии. Но давай не будем сегодня о них говорить, — вздрогнув и негромко, нервно рассмеявшись, сказал он. — Не хочу, чтобы они испортили нам выходные.
Они добрались до гостиницы и поднялись к себе в номер. Там они умылись, разделись и улеглись рядышком на свои отдельные кровати. Эрнст погасил свет, пожелал Полу спокойной ночи и потянулся в темноте к его руке — все одновременно. Первым побуждением Пола было отдернуть руку, как только это покажется возможным сделать, не отвергая Эрнстовой дружбы, но слова Уилмота, которые он привел на пляже, все еще эхом звучали у него в голове, ставя его перед альтернативой: либо отвергнуть любовь, либо ответить взаимностью — и подтверждая тем самым тот отрицательный факт, что он испытывал к Эрнсту физическое отвращение. Кровати были сдвинуты вплотную. Вместо того чтобы отдернуть руку, Пол подвинулся и перелег на кровать Эрнста. Он быстро сообразил, что принять решение откликнуться на Эрнстовы заигрывания оказалось куда проще, чем заставить это сделать собственное тело. По причине некой нервной реакции на чувство омерзения — а может, из желания как можно скорее покончить с физической стороной дела — кончил он очень быстро. То была его первая в жизни половая связь. Потом он осознал, что если сразу же вернется на свою кровать, не дав получить удовлетворение Эрнсту, то выразит тем самым еще большее неприятие, чем отказав ему с самого начала. Поэтому он остался в Эрнстовой кровати, а Эрнст продолжал елозить по нему, силясь достичь оргазма. Пол понимал, что согласно критериям Уилмота, он уже оказался не в состоянии проявить чувство любви. Его непроизвольная реакция доказывала его неспособность отвечать на любовь любовью. Но по крайней мере, подумал он, можно выразить симпатию, просто оставаясь в постели Эрнста. Если он побудет с Эрнстом, пока тот не кончит, их свяжет своего рода обоюдность проявленного друг к другу расположения. Правда, Эрнст с трудом продирался к своему бесплодному оргазму сквозь бесконечное количество твердых, как скалы, минут. Пол, который лежал в постели беспрерывно ерзавшего на нем Эрнста, не смог бы почувствовать большей оторванности от него, даже находись он в Гамбурге, а Эрнст — в Альтамюнде. Он действительно чувствовал одинокость, которая была превыше их обоих, превыше даже его самого, как будто в этом одиночестве и заключалось все его существование. Лежа там, во тьме, он чувствовал себя узником, брошенным на пол, откуда его заставили лицезреть ярко освещенную мозаику на стене некоего собора в романском стиле, мозаику с бесами и демонами, пытающими вилами обнаженных грешников. Однако он не был настолько низок — или был слишком одинок, — чтобы винить Эрнста, отождествляя его с неким демоном. Эрнсту он даже сочувствовал. Ад был в нем самом. А когда Эрнст погрузился наконец в глубокий, спокойный сон, который Пол расценил как признак достигнутого оргазма, он испытал только чувство облегчения за Эрнста. И все же он знал, что пока Эрнст спит, он обречен до утренней зари пролежать не смыкая глаз, ибо лишь солнечный свет умерит его отвращение к самому себе.