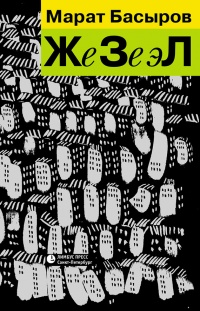Книга Печатная машина - Марат Басыров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы много смеялись, слишком много на двоих. Лежа на диване перед большим телевизором, мы упивались великолепной игрой, и каждый удар ракетки по мячу тугим звоном отдавался в наших телах.
— Ты хотел бы оказаться сейчас на корте? — задавала вопрос Таня, и ее подбородок касался моего кадыка, щекоча в этом месте кожу.
— На корте? — переспрашивал я, подушечкой указательного пальца ласково водя по ее плечу. — Сейчас?
Я пытался представить в своих руках ракетку, напряженную фигуру соперника на том конце грунтовой площадки, судью на вышке, разделительную сетку, палящее солнце и свой выдох после хлесткого удара. От этого мне становилось не по себе, меня охватывало томительно-сладкое предвкушение игры, ощущение возможности полета.
— Ты чувствуешь это? — ее шепот проникал в мой слух, и мое «да» тонуло в наступающей тишине в момент подачи, когда любой случайный шорох может помешать правильному исполнению приема.
Да, я чувствовал.
Она перекатывалась, ложилась на меня, прижимаясь ко мне спиной в ожидании парной игры. Начинали мы размеренно, не торопясь, расслабленно перекидывая мяч через сетку, не вкладываясь в удары, как бы разминаясь перед тем, когда можно будет взорваться и показать все, на что ты способен по-настоящему. Она что-то шептала, шептал и я, мы обменивались тайными знаками, выстраивая ближайший розыгрыш на несколько ходов вперед, и эта приобщенность была сродни заговору.
Все заканчивалось в тот момент, когда мне нужно было уходить. За окном моросил холодный питерский дождь, и он был реальнее заходящего парижского солнца.
Таня провожала меня до дверей, мы расставались молча, она улыбалась, и я целовал ее на прощание. Потом выходил за дверь, спускался по гулкой широкой лестнице и нырял в сырой сумрак.
Потом наступал новый день, мы снова смотрели теннис, комментируя шансы того или иного спортсмена в продвижении по турнирной сетке. Все эти разговоры вертелись вокруг одних и тех же имен: фавориты всегда одни и те же — таков реальный расклад, хотя, конечно, случаются и сенсации. Когда люди играют на вылет и выкладываются в каждом матче по полной, никогда нельзя предугадать, что в конечном результате окажется сильнее — страсть или же хладнокровная уверенность в своих силах.
Турнир набирал ход, после двух первых «въезжающих» кругов все четче стал вырисовываться упругий соревновательный ритм, и даже «болл-бои» на линиях подтянулись и кричали «аут» так, как будто спасали кому-то жизнь.
Нас также охватил азарт: уже можно было не сомневаться, что борьба пошла нешуточная, хотя до решающих поединков было далеко. Мы еще могли позволить себе некоторую расслабленность, но тягучая томность первых встреч уже отходила в прошлое.
В перерывах Таня заваривала чай, кидала в микроволновку пиццу, нарезала фрукты для салата. Меня умилял кишмиш в ее голове, когда дело не касалось самой игры, — в те моменты, когда она позволяла себе отвлечься, — но вот эта девочка возвращалась ко мне и обхватывала ладонью твердую ручку ракетки, и все становилась на свои места.
— Как он двигается! — в восхищении выдыхала она, глядя на экран.
— А как он стоит, — подначивал ее я.
— Да он вообще не стоит, — возражала она, и наш смех сливался с аплодисментами искушенных зрителей, приветствующих классную обводку по линии.
Судья объявлял счет, и он был пока в нашу пользу.
Шла вторая неделя турнира. Каждый вечер я уходил домой, получая необходимую мне передышку. Я не то чтобы нарушал режим, но иногда позволял себе пару банок пива, шагая к метро в молочном тумане белой ночи. Французы, испанцы, итальянцы и хорваты, — все их чудные имена растворялись в этой наполненной сыростью городской вязи, во всем том, что окружало меня в те минуты, когда я был абсолютно свободен. «Ролан Гаррос» отходил далеко на задний план, его шум пропадал в листве лип, прохладный воздух вытравливал из памяти жаркий запах пота, дрожь переживания уступала место другой дрожи, рождаемой не желанием, но покоем.
«Господи, — думал я, попивая из банки, — неужели то и это — величины разного порядка? Неужели их нельзя сложить, — так, чтобы получилось целое число, которое можно будет без остатка поделить на свою жажду обладания тем и другим в равной мере? Как справляются с этим те, у кого нет времени остановиться, у кого воля к победе и совершенству преобладает над простым желанием жить?» Я думал о Тане, которую оставлял каждый вечер, чтобы вернуться в свой мир; я был раздвоен, но это были мои проблемы. Что чувствовала она, я не знал. Вероятно, то же самое.
Наступил день финала.
Я пришел за пару часов до игры, чтобы как следует подготовиться к решающему поединку. Таня также была возбуждена больше обычного, она буквально не могла усидеть на одном месте. Вопреки нашим предположениям, Амели все же дошла до финала, и сегодня ей предстояло побороться за титул. «А-моресмо, а-моресми!» — верещал цыпленок, который за последние две недели, не прибавив ни в росте, ни в весе, успел задолбать половину земного шара.
Спортсменки с большими сумками через плечо вышли на корт.
— Ложись, — сказала мне Таня.
Я лег рядом, пытаясь справиться с нервной дрожью. «Господи, как в первый раз», — думал я, целуя горячие губы. Моя ладонь легла на ее грудь и легонько сжала.
— Не-е-ет, — выворачиваясь из-под меня, протянула она. — Я хочу посмотреть финал.
— Правда? — отстраняясь, спросил я.
— Правда, — ответила она.
Заканчивался третий гейм, француженка проигрывала на своей подаче, но это было уже неважно, потому что теперь уже подавал я, четко и уверенно выцеливая туда, куда мне было нужно.
Уже потом, целуя меня на прощание, она опустила ресницы, чтобы скрыть выражение глаз.
Закурив, я вышел на улицу, постоял немного, выдыхая сигаретный дым, затем двинулся вдоль домов.
«Какая разница, кто победил, — думал я, стоя на перекрестке, — если все остается по-прежнему. Если победа, как и поражение, по сути ничего не меняет в этой жизни. Если сама жизнь гораздо больше, чем наши понятия о ней».
Светофор загорелся зеленым, я затянулся в последний раз, бросил окурок под ноги и пересек проезжую часть.
Игра была закончена, но жизнь продолжалась.
Кстати, кому интересно, Амели проиграла.
Мне тридцать пять, сынку двадцать три. Мы копаем яму под коллайдер.
— Сука, — говорит сынок, вгрызаясь лопатой в глину. — Гребаная работа.
Я молчу. Начнешь ему отвечать, и он опять сведет к тому, что он лучший писатель современности. Может, это и так, даже скорее всего, но мне-то что с этого? Лучший, да и хер с ним.
Мы в сапогах, под ногами хлюпает вода. У меня насморк, немного болит голова, глина идет вперемешку с камнями. Коллайдер, лежа на краю ямы, нависает над нами черными боками как некое материализовавшееся из пустоты возмездие. «Ускоритель элементарных частиц», — вспоминаю я и плюю в коричневую воду.