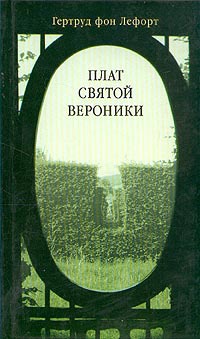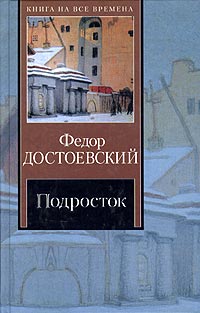Книга Венок ангелов - Гертруд фон Лефорт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вначале мы распределили между собой костюмы, извлеченные мной из старинных шкафов. Среди них оказалось несколько совершенно прелестных экземпляров: настоящие ампирные платья с высокой линией талии, разноцветные фраки времен Вертера, веера, расписанные цветочными гирляндами и маленькими храмами дружбы, элегантные капоры и бидермейеровские шали – одним словом, каждый нашел все, что было нужно для его роли, и нам так понравился этот маскарад, что мы сразу же начали репетировать в костюмах; к тому же мы обнаружили, что, облачившись в свое платье, каждый мгновенно перевоплощался, как бы заодно «надев» на себя и свою роль. Что до моей роли, то я очень быстро свыклась с ней, как будто изображала самое себя. Каждый раз, читая заключительные строки стихотворения Марианны фон Виллемер: «И здесь я счастлива была, любима и любила», – я смотрела на Энцио. А он уже ждал этого взгляда и отвечал мне сияющей улыбкой. Повторение этой игры на каждой репетиции, ее тайное, сладкое, волшебное очарование было для нас обоих истинным блаженством. Оно было настолько острым, что однажды я непроизвольно переделала прошедшее время в этих строках на настоящее – я сказала:
– И здесь я счастлива, любима и люблю…
Никто не заметил этого, кроме него. Это мгновение тоже стало одним из незабываемых взлетов нашей любви.
Спустя несколько дней Энцио сообщил мне, что должен ненадолго уехать и что это связано с его намерением получить упомянутую должность редактора, которая могла бы стать материальной основой нашей семейной жизни. А репетициями во время его отсутствия займется Староссов.
В последующие дни мне пришлось много общаться со Староссовом, потому что к репетициям он относился с такой же серьезностью, как и к моим конспектам. Похоже, он с одинаковым рвением исполнял все желания Энцио. Когда наша маленькая труппа входила в павильон, он уже ждал нас и прилагал все усилия к тому, чтобы быть «распорядителем бала» в духе Энцио. Его добросовестность доходила до того, что он даже во время репетиций всегда вставал на то самое место, где обычно стоял Энцио. Когда я читала стихи Марианны фон Виллемер, его красивое, благородное лицо каждый раз неизменно обращалось ко мне, как это было с Энцио, словно он тоже, как и его друг, ждал последних строк, – и в то же время он как будто защищался от этих строк! В эти минуты он был почти похож на Энцио, когда тот стоял на лестнице, – у него тоже был такой вид, как будто никто и ничто в этом мире не может смутить или устрашить его, – с той лишь разницей, что у Энцио и в самом деле было такое выражение, в то время как лицо Староссова скорее напоминало маску, как будто кто-то отнял у него его истинное лицо. Мною каждый раз овладевало какое-то странное чувство сострадания. Он не сильнее Энцио, думала я, он слабее его и потому должен выражать все гораздо «беспощадней». Это сострадание заставляло меня быть с ним приветливей, хотя он по-прежнему избегал разговоров со мной. А разговоры эти, однако, в то время были иногда необходимы – однажды нам даже пришлось, уже после того как все ушли, с глазу на глаз обсуждать с ним какие-то вопросы, связанные с постановкой. Мы сделали это в кратчайшей форме, какая только была возможна, причем я тоже со своей стороны стремилась закончить разговор как можно скорее, поскольку мне почудилась за его сухостью и неприступностью – теперь, когда мы остались наедине, – какая-то лихорадочная, почти болезненная спешка, которая передалась и мне. Вероятно, поэтому я, прощаясь, забыла у него свой блокнот, в который было записано все связанное с нашими ролями и костюмами. Я заметила это, спускаясь садом вниз по склону горы, уже на значительном расстоянии от дома, и тотчас же отправилась обратно, чтобы забрать блокнот. Я надеялась, что Староссов не заметит меня, так как он уже сидел за роялем: навстречу мне сквозь глубокие летние сумерки плыли звуки «Аппассионаты», которую страстно любила моя бабушка и которая так часто звучала в ее салоне. Лавина воспоминаний обрушилась на меня, когда я приблизилась к павильону. Я невольно остановилась перед входом и слушала затаив дыхание. Не знаю почему, но Староссов заметил меня. Он вдруг встал и вышел на маленькую площадку перед дверью, но, увидев меня, не проронил ни слова. В этом молчании, в котором он застыл передо мной, было что-то непочтительное, но в то же время чувствовалась какая-то многозначность, грозившая окончательно смутить меня, – я вынуждена была нарушить его.
– Я забыла у вас свой блокнот, – сказала я, – а услышав, как вы играете, решила немного послушать: я очень люблю «Аппассионату».
– Что ж, проходите, садитесь. Прошу вас… – пробормотал он.
Он произнес это как бы нехотя, но у меня мелькнуло совершенно невероятное предположение, что он позвал меня своей музыкой. Между тем мы с ним вошли в зал, где он придвинул ко мне кресло. Я опустилась в него с очень странным чувством: все в Староссове мне вдруг стало казаться исполненным какой-то непостижимой двусмысленности – как будто это были два человека, один из которых временами заслонял другого.
Он вновь сел к роялю и заиграл, не обращая на меня внимания. Рояль обладал изумительно красивым звучанием, да и игра была мастерской, хотя и несколько необычной, чтобы не сказать странной. Я хорошо знала «Аппассионату» и ее традиционную интерпретацию. Версия Староссова была в высшей мере своеобразна. К тому же он перед самым финалом внезапно прервал игру и тут же начал вариации Диабелли[31], но тоже не доиграл их до конца, подхватив обрывок какой-то знакомой мне композиции, названия и автора которой я, однако, никак не могла вспомнить. Из-за этих внезапных переходов, а еще из-за того, что во время его игры распахнулась дверь на террасу, у меня возникло тягостное ощущение, будто это сама ночь, то и дело врываясь в комнату, подхватывает музыку, уносит ее прочь и поглощает, чтобы вновь вернуть через миг. Я невольно вспомнила о загадочном свойстве бездонных горных озер, о которых рассказывают, что они через определенные промежутки времени несколько раз исторгают свои жертвы из темных глубин на поверхность, прежде чем навсегда поглотить их. Я еще раз услышала слова, сказанные Староссовом моему опекуну: «Рано или поздно все кончается. Все имеет свой конец. Там, где нет наследников, не могут исполниться никакие заветы». Может быть, он считал, что и время классической музыки подошло к концу? Может, эта игра – своего рода прощание с ней?
Он, все чаще обрывая себя посредине музыкальной фразы, исполнил еще несколько разных фрагментов и, казалось, совершенно забыл о моем присутствии. Лишь однажды, когда он наклонился вперед, чтобы достать какие-то ноты, его странно застывший взгляд упал на меня – взгляд, затененный глубокой, я бы даже сказала, потрясающей серьезностью; она придавала его чертам что-то неумолимое, но в то же время у него опять как будто кто-то отнял его собственное лицо!
– Почему вы как будто спешите распрощаться со всем, что играете? – вырвалось у меня. – Ведь это же, наверное, тяжело.
Он, казалось, на мгновение растерялся, но затем очень уверенно ответил:
– О нет, это совсем не тяжело. Да и прощанием это никак нельзя назвать: прощание уже давно позади. Эта музыка больше не имеет власти надо мной, от нее остался лишь звук, который приятен моему слуху, но она уже ни к чему меня не обязывает; мне просто нравятся эти звуки, они для меня абсолютно безопасны, как и все прошедшее. Истинный голос моего времени звучит по-другому – вот послушайте!