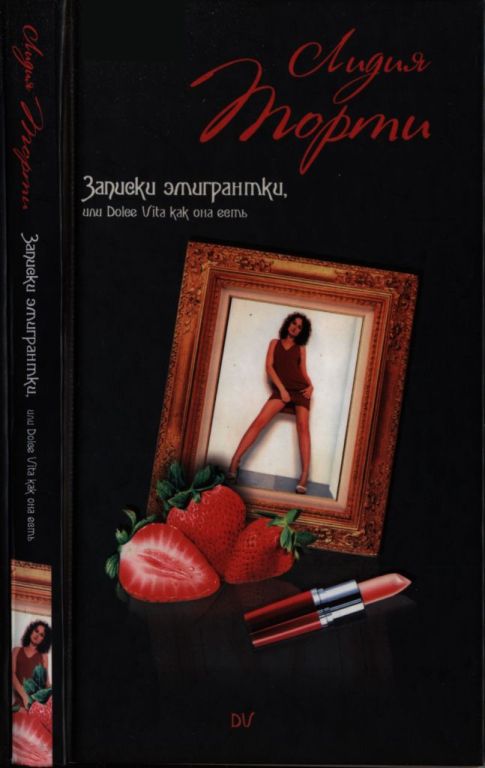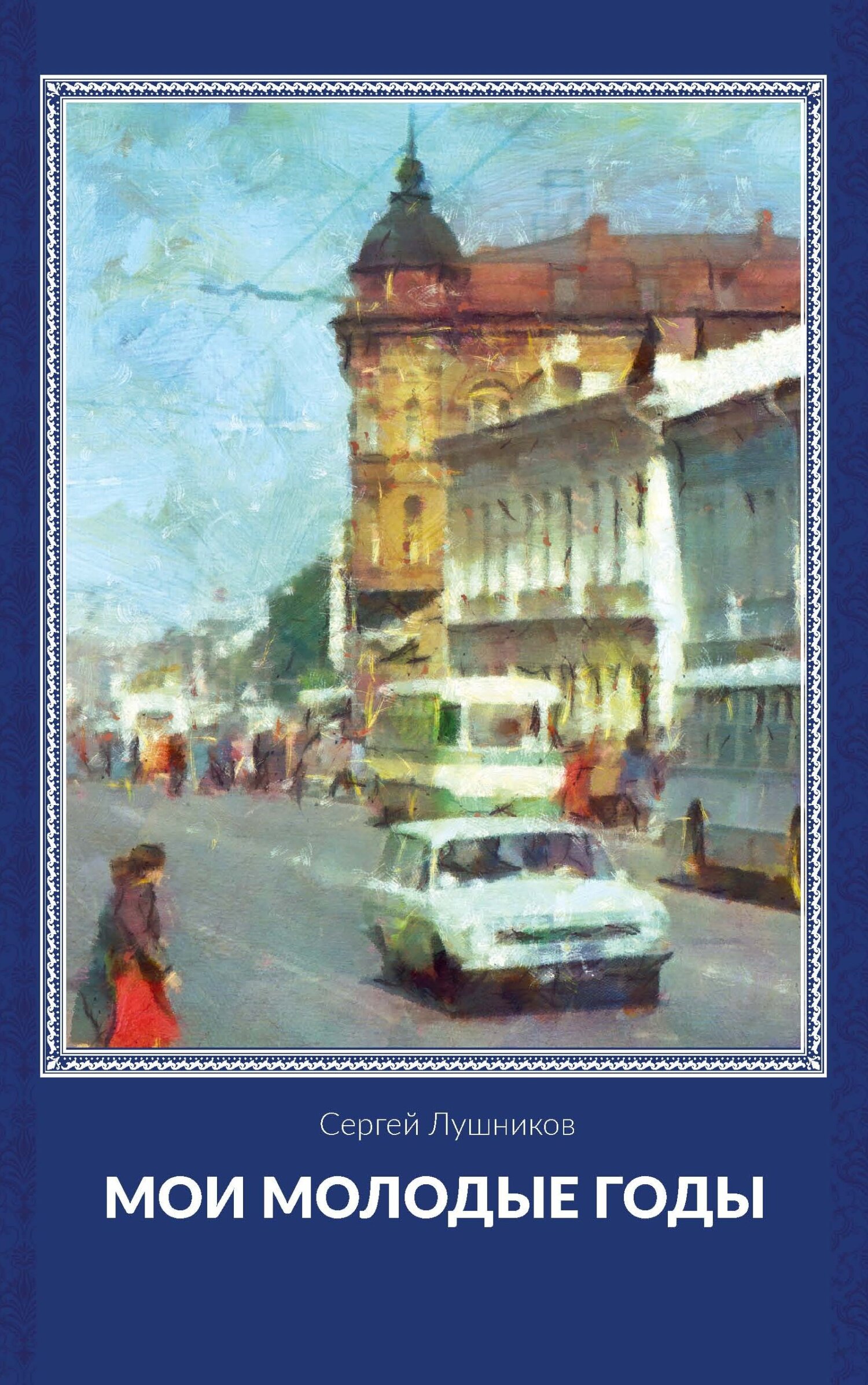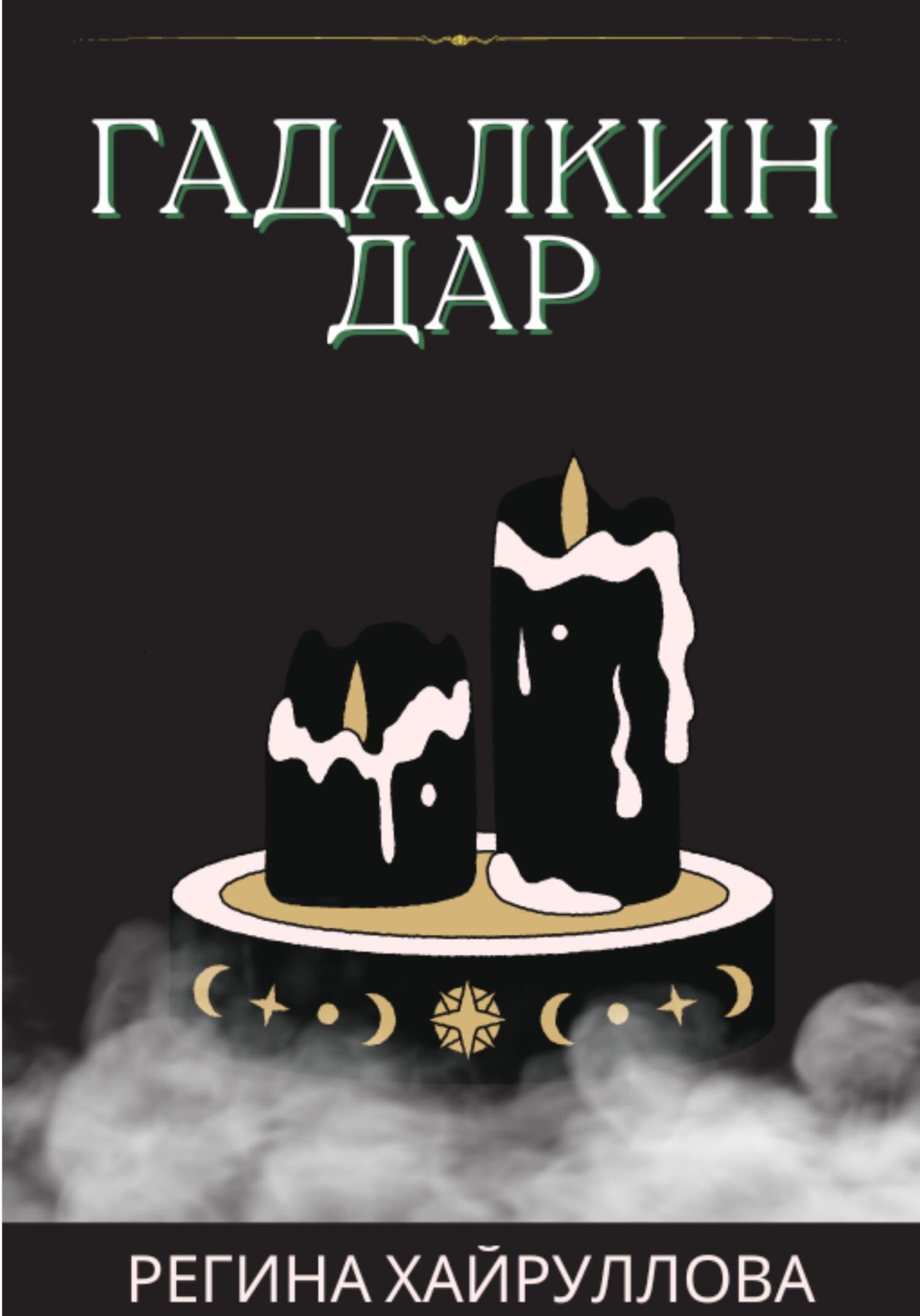Книга Хронология воды - Лидия Юкнавич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Да ладно?
Ничего не могу с этим поделать. Когда выпадает шанс заполучить волосы кого-то для меня важного, я пру напролом.
Волосы Кена Кизи на ощупь напоминают ягнячью шерсть. Если смотреть на просвет, они принимают разные формы, подобно облакам, — так дети, глядя в небо, ощущают прикосновение мечты.
В антропологии слово «фетиш» закрепилось благодаря Шарлю де Броссу. Его работа «О культе богов-фетишей» повлияла на правописание этого слова в английском и раскрыла одержимость желания.
Но лучше будет сказать «нечто, почитаемое иррационально».
Фетишизм как психосексуальный термин впервые всплыл в работе сексолога Хэвлока Эллиса примерно в 1897 году. Читали Хэвлока Эллиса? Он что, торчал?
Волосы Кэти Акер похожи на лезвия выцветшей травы — острые и жесткие — и пахнут бассейном.
Это не просто волосы.
Это волосы (и до сих пор, если я встречаю кого-нибудь с прекрасными волосами, я хочу уткнуться в них лицом и затеряться там). И еще кое-что.
Шрамы.
Мне нравится водить по ним языком, будто считывая шрифт Брайля.
Волосы буддиста пахнут гладкими камнями из реки. Волосы христианки — смесью автомобильного салона с долларовыми счетами и лосьоном после бритья. Или как вариант — печеньем с шоколадными каплями.
Я хочу рассказать вам об одной женщине.
Сразу после того, как расскажу о маме. Так как с этого, собственно, всё и началось.
У мамы от рождения одна нога короче другой на пятнадцать сантиметров. В моей жизни это значило нечто совсем иное, чем в ее.
В детстве это значило, что ее жемчужно-блестящий шрам находился точно на уровне моих глаз. Такой белый. Такой красивый. Мне хотелось трогать его. Прикасаться к нему ртом. Когда она выходила из ванной, я обнимала ее ногу, закрывала глаза и видела его видела его видела его. Видела пересекающиеся белые дорожки, слишком-белую-не-кожу на ее несчастной ноге, темную линию ее лобковых волос. Голова кружилась так, что темнело в глазах.
И это еще не всё. Мама закручивала волосы бесконечной спиралью на затылке. Когда она их распускала, они ниспадали до икр. И пахли елкой.
Все желания, что вспыхивали тогда во мне, питались двумя этими образами.
Мама рассказывала, что девочкой растила и растила волосы, чтобы спрятать за ними всё: тело, деформированную ногу, шрамы. Она хотела, чтобы у нее было что-то прекрасное, способное скрыть хромоту.
В мои тринадцать мама начала работать в агентстве недвижимости и получила награду. Она уходила из дома всё чаще и чаще. А выпивки в нем становилось всё больше и больше. Шкафчик в ванной был тесно заставлен бутылками водки. Она отрезала волосы в том самом 1970 году, на пути к своему риэлторскому успеху. Длинный хвост свернулся клубком, точно кот, и прятался в коробке, в шкафу ее спальни. Иногда я сидела там в темноте, нюхала ее волосы и плакала.
СИЛЬНЕЕ
«ТЕПЕРЬ ПОПРОСИ МЕНЯ О ТОМ, ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ».
Может, дело было в том, что мы виделись всего три раза в год. Она жила в Нью-Йорке, а я в Юджине, Орегон. Может, дело было в ее статусе. Она достигла таких высот в академических кругах, что сама возможность быть рядом воспринималась как награда. Или ей нравились мои отвязные бунтарские истории. Или для меня не оставалось места в ее повседневной жизни. Или всё это из-за ее шрама, ее волос — моих перверсий. Но, думаю, самое важное заключалось в том, что она научила меня понимать боль.
Когда мне было двадцать шесть, в Орегонский университет приехала с лекцией крутая профессорка. Сразу скажу, к этому я не была готова. Я строила из себя студентку-всезнайку. Вся такая Сонтаг, и Беньямин, и Делёз, и Фуко. Умничала о Барбаре Крюгер и Ролане Барте… да кому какое дело? Главное: я не была готова к мощному стремительному психосексуальному регрессу, от которого подо мной растеклась лужа.
Когда она вошла в аудиторию, я даже со своей галерки увидела ее серебряно-черные волосы. Заплетенные в косу, они спадали по спине до попы. Лицо и руки цвета Альбукерке. А когда она обернулась на наши ханжеские аплодисменты, я заметила кое-что еще. Прямо под левым глазом, на детски тонкой коже тонко сверкнуло что-то белое. Так просто и не рассмотришь. Я сползла на край сиденья и подалась вперед.
Свет приглушили, осталась только лампа над кафедрой. И тогда я разглядела паутину хрупких шрамов, которая лежала на щеке, охватывала подбородок и спускалась по шее в вырез рубашки.
Я моментально оглохла. В том смысле, что не уловила ни слова из ее знаменитой часовой лекции о фотографии. Как будто слушала из-под воды. Иногда без особого успеха я пыталась перевести взгляд с нее на экран, где сменялись кадры. Дыхание сбилось. Под грудью и между ног всё вспотело. Лицо горело. Скальп, казалось, сам собой сползал с черепа. Рот наполнился слюной. Хотелось, чтобы все вокруг умерли.
К тому моменту, когда выступление закончилось и я спустилась вниз сквозь толпу подхалимов, пробилась через армию клонов и протянула руку, чтобы поздороваться, представиться и посмотреть на то, чего так отчаянно желало мое тело, я уже знала всё.
Она была маминой ровесницей.
За несколько рукопожатий до моего я заметила, что она вытирает ладонь о брюки с такой силой, что вечером в гостинице наверняка обнаружит на этом месте пятно. Пятно на бедре от множества жадных рук. Мне стало чуть-чуть стыдно.
Насколько помню, я стиснула ее ладонь. Отчаянно повторяя про себя: не отчаиваться, не отчаиваться, не отчаиваться, черт возьми. Она подняла на меня тот стеклянный взгляд, которым лектор встречает придурковатых обожателей с их руками и лицами. Когда она отпустила мою кисть, я подумала: ну вот, еще одна придурковатая обожательница. Не исключено, что я пустила слюну.
Ее рука в моей была влажной. Влажной от усилий, затраченных на общение с жадной толпой, хотя ты должна быть одна в целом мире, бескомпромиссно и славно, с единственным возлюбленным — фотоаппаратом. Наводить и снимать. Влажной от наших слюнявых представлений о ней, которые едва не капали на пол. Влажной от пота сотен тупиц вроде меня.
Не знаю, почему я это сделала. Знаю только, что не сделать не могла. Держа ее за руку, я приблизилась к ее лицу и сказала:
— Меня зовут Лидия. Я писательница.
Сказала ее шрамам, проведя по коже голосом и взглядом. Когда я ее отпустила, у меня зарябило в глазах. Ее волосы пахли дождем.
Помню, как уходила из университета с ощущением, что я одна из многих.
Но это был не последний раз, когда я к ней прикасалась.
Тогда я еще не ведала, что