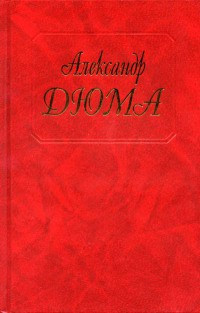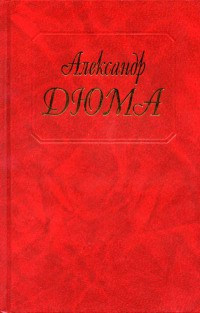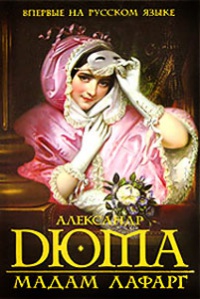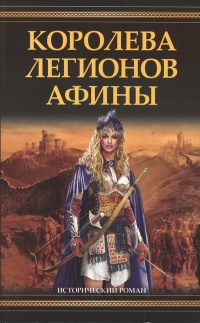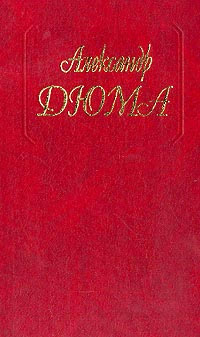Книга Актея - Александр Дюма
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как нам теперь известно, это были обширные и заброшенные каменные карьеры; весь Рим с его домами, дворцами, театрами, банями, цирками, акведуками — весь Рим, камень за камнем, вышел оттуда. Это было лоно, породившее город Ромула и Сципиона. Однако, с тех пор как при Октавиане на смену камню пришел мрамор, в этих просторных галереях уже не отдавались гулким эхом шаги каменотесов. Травертин стал слишком простым и заурядным, и императоры приказывали доставлять порфир из Вавилона, гранит — из Фив, бронзу — из Коринфа. Огромные пещеры, вырытые под Римом, стояли заброшенные, пустые, забытые, пока зарождающееся христианство мало-помалу не заселило их снова: сначала они были храмом, затем — убежищем и наконец — городом.
В то время, когда Актея и старец спустились в катакомбы, те были еще только убежищем: каждый, кто страдал в неволе, каждый, кто был несчастен, каждый, кого преследовал закон, мог быть уверен, что найдет там приют, слово утешения и могилу. Люди укрывались во тьме катакомб Целыми семьями; новая вера уже насчитывала тысячи сторонников; но среди громадного скопища людей, живших на поверхности Рима, ни один не заметил этого проникновения под землю: исчезавших было все же не так много, чтобы их отсутствие всем бросалось в глаза, да и численность населения города почти не снизилась.
Не следует думать, однако, будто вся жизнь первых христиан сводилась к тому, чтобы скрываться от гонений, тогда как раз начавшихся. Чувство духовного единения, благочестие и мужество побуждали их действовать всякий раз, когда их братьям, которых какая-нибудь необходимость еще удерживала в стенах языческого города, угрожала опасность. Бывало, что в грозную минуту неофит из верхнего города неожиданно получал помощь снизу: у него под ногами открывался невидимый люк и затем закрывался над его головой. Или дверь темницы непостижимым образом поворачивалась на штырях, и тюремщик убегал вместе с узником. А если гнев гонителей поражал мгновенно, как молния, если неофит превращался в мученика, то, будь он удавлен в Туллиевой темнице, или обезглавлен на городской площади, или сброшен вниз с Тарпейской скалы, или же, наконец, распят на вершине Эсквилина, — ночной порой осторожные старики, отважные юноши, а иногда и робкие женщины окольными тропинками взбирались на проклятую гору, куда трупы казненных выбрасывали на съедение диким зверям и хищным птицам, подбирали истерзанные тела и благоговейно относили в катакомбы. И там эти жертвы из предмета ненависти и омерзения для своих гонителей, превращались в предмет поклонения и почитания для своих братьев, призывавших друг друга жить и умереть так же, как жил и умер на земле праведник, прежде их вознесшийся на небо.
А нередко смерть, устав разить при свете дня, выбирала себе жертву в катакомбах. В этом случае не мать теряла дочь, не сын терял отца, не супруга лишалась супруга, но вся семья, собравшись вместе, оплакивала свое чадо. Его одевали в саван; если это была девушка, ее увенчивали розами; если усопший был зрелый муж или старец, ему вкладывали в руку пальмовую ветвь; священник произносил над ним заупокойную молитву, а затем его бережно опускали в могилу, заранее выдолбленную в камне, где ему предстояло покоиться в ожидании воскресения и вечной жизни. Эти гробы и видела Актея, когда впервые входила под неведомые своды. Тогда они внушили ей безмерный ужас, но вскоре стали вызывать светлую печаль. По сути своей язычница, но в душе уже христианка, девушка нередко останавливалась и часами простаивала перед этими гробовыми камнями, на которых безутешная мать, супруга или дочь острием ножа нацарапали имя незабвенного усопшего, какой-нибудь религиозный символ или слова из Писания, что выражают боль или надежду. Почти на всех могилах был изображен крест, символ смирения, говоривший людям о страданиях Бога; а еще семисвечник, горевший в храме Иерусалимском; или голубка, вылетающая из ковчега, кроткая вестница милосердия, несущая на землю оливковую ветвь из райских кущей.
Но бывали и другие минуты, когда в сердце Актеи вдруг властно оживали воспоминания о счастье. И она ловила лучи солнечного света, прислушивалась к шумам и шорохам земли. Одинокая, нелюдимая, она садилась, прислонившись к столбу; так она сидела, склонив голову на колени, скрестив руки, окутанная длинным покрывалом, и проходящие мимо могли бы принять ее за надгробную статую, если бы не вздох, время от времени вылетавший из ее уст, если бы не судорога боли, время от времени пробегавшая по ее телу. В такие минуты Павел — единственный, кто знал, что происходит в этой душе, — Павел, видевший, как Христос простил Магдалину, надеялся, что время и Бог исцелят эту рану; видя Актею такой безмолвной и неподвижной, он говорил самым непорочным из девушек:
— Молите Господа за эту женщину, чтобы он простил ее, чтобы она однажды стала одной из вас и молилась вместе с вами.
Девушки повиновались, и, оттого ли, что их молитвы доходили до неба, оттого ли, что слезы смягчают боль, юная гречанка, с увлажненными глазами и улыбкой на устах, вскоре вновь присоединялась к подругам.
Между тем, в то время как укрывшиеся в катакомбах христиане проводили жизнь в делах милосердия, ревностном служении Богу и ожидании, над головой у них происходили бурные события: весь языческий мир шатался как пьяный, а Нерон, повелитель пиров и царь разврата, упивался наслаждениями, вином и кровью. Смерть Агриппины оборвала последнюю узду, которая еще сдерживала его, — детский страх юноши перед матерью. Когда погас погребальный костер, вместе с ним, похоже, в Нероне угасли всякий стыд, всякая совесть, всякое раскаяние. Он пожелал на какое-то время остаться в Бавлах. На смену исчезнувшим благородным чувствам пришла трусость: при всем его презрении к людям, при всем его хвастливом пренебрежении к богам Нерону не могло не прийти в голову, что подобное преступление обрушит на него ненависть одних и гнев других. Поэтому он остался вдали от Неаполя и от Рима, ожидая новостей от своих посланных. Однако он напрасно сомневался в низости сената: вскоре к нему явились представители патрициев и всадников, чтобы поздравить его с избавлением от непредвиденной опасности и сообщить, что не только Рим, но и все города империи посылают в храмы множество гонцов для совершения благодарственных жертвоприношений. Что касается богов, то, если верить Тациту (который, впрочем, мог наделить их известной долей собственной прямолинейной суровости), они оказались не столь уступчивы и наслали на нераскаявшегося преступника бессонницу. Лежа без сна, он слышал трубные звуки на вершинах ближних холмов, а с той стороны, где была могила матери, доносились непонятные и необъяснимые жалобные крики… Кончилось тем, что он уехал в Неаполь.
Там он снова встретил Поппею, и от этой встречи в нем с новой силой вспыхнула ненависть к Октавии, злополучной сестре Британика. Несчастная в девичестве, она, любившая Силана чистой любовью, была отторгнута от него: Агриппина бросила ее в объятия Нерона. Несчастная в браке, она, чей траур начался в день свадьбы, вошла в дом мужа лишь затем, чтобы увидеть, как умрут от яда ее отец и брат, вошла лишь затем, чтобы вести тщетную борьбу с более могущественной соперницей. Двадцати лет от роду она была сослана на остров Пандатарию, вдали от Рима, и предчувствие близкой смерти уже отделяло ее от живых. Весь ее двор, если можно так назвать эту ужасную свиту, составляли центурионы и легионеры, чьи взоры были прикованы к Риму: один приказ оттуда, одно движение, один знак — и каждый льстец превратился бы в палача. Но даже такая ее жизнь — в ссылке, в горе, в безвестности — не давала покоя Поппее, живущей в роскоши и обладающей безграничной властью. Дело в том, что красота, молодость и несчастья Октавии сделали ее популярной. Римляне безотчетно жалели ее, потому что людям свойственно испытывать бессознательную жалость при виде страданий слабого, беззащитного существа. Однако эта жалость могла разве что погубить ее, но уж никак не спасти: такое же искреннее, но бессильное сострадание испытывают, глядя на раненую газель или сломанный цветок.