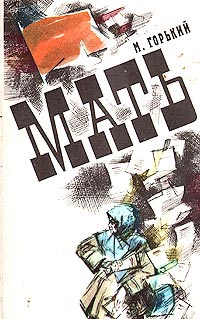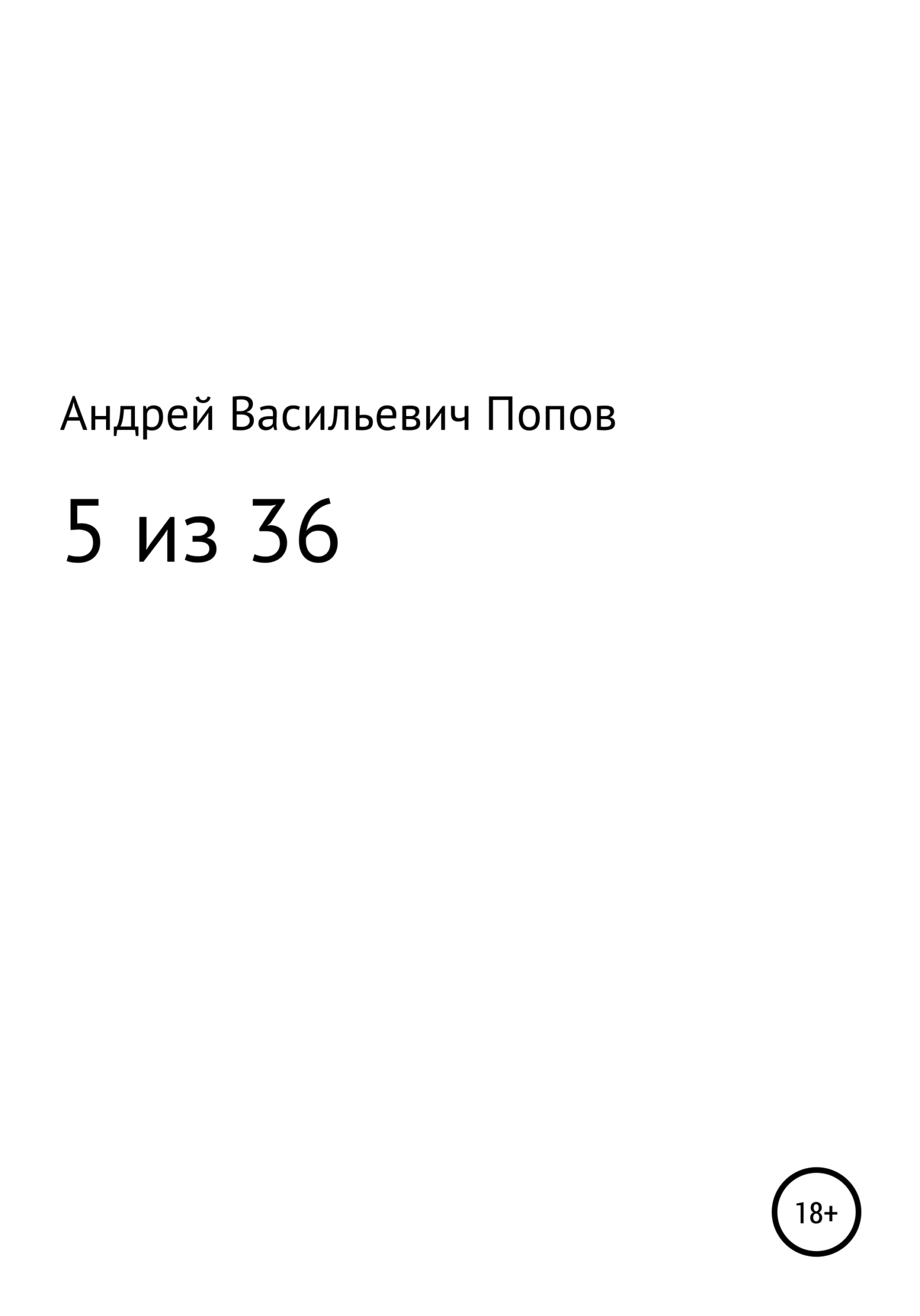Книга Мещанка - Николай Васильевич Серов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вы говорите — вам интересно жить?
— Очень!
— Чем же? Это и есть мой вопрос.
— Я вас не совсем понимаю, — удивился Павел Васильевич. — Как это чем? Да всем. А разве вам не интересно?
— Каждый видит интерес жизни по-своему.
— Конечно.
— Так вот в чем вы его видите?
— Во всем. В людях, в работе, в природе… Я радуюсь каждому новому дню, мне интересно, что он принесет мне и что́ я могу принести в этот день людям.
— Красиво. Хорошо, — усмехнулся собеседник и поправил бабочку. — Но и до вас говорили это.
— Конечно, — согласился Павел Васильевич. — И после меня скажут. Не я первый, не я последний на земле. Всякий живущий радуется жизни и многие радуются по-моему и говорят об этом так же. Я ничего нового в этом и не ищу.
— Но, дорогой мой, скажите: неужели вы серьезно только и живете машинами, планом, хлебом? А где же эстетика, где все, что составляет человеческий интеллект. Или вы для порядка говорите и требуете одного, а живете другим? Зачем же тогда быть таким непримиримым, если кто-нибудь говорит об этом прямо, как, скажем, Василий Ильич?
— Ах вот оно что! — проговорил Павел Васильевич. — Где моя эстетика? В чем я вижу прекрасное, чему поклоняюсь? Понимаю. Я вижу прекрасное в машинах, в планах наших, в хлебе. И я утверждаю, что это самая большая, самая величественная эстетика из всех, которые когда-нибудь проповедовались. Это мать всего. Этому и поклоняюсь прежде всего. Эстетика — это ведь наука о прекрасном. А что может быть прекрасней работы для человека? Ничего! — уже разгоревшись, воскликнул Павел Васильевич. — Чтобы ему легче было жить с каждым днем, чтобы он не думал о куске хлеба, чтобы машины, в тысячу крат усилив его мышцы, сняли с них тяжесть работы. Да пусть человек живет в райской природе, но если он изнурен работой, если его гложет нужда, он и не увидит и не поймет ее красоты. А он должен видеть красоту. Каждый должен, а не только те, кто сочиняет труды по эстетике. Для этого есть главная на земле эстетика — эстетика труда. Кто отрывает ее от всяких других вопросов и создает для себя особый мир эстетики, тот эгоист и ничего более.
— А наслаждение природой, женской красотой и многим другим — это что, ненужное всё? — барабаня пальцами по столу, спросил товарищ Воловикова.
— Как так ненужное? — удивился Павел Васильевич. — Почему ненужное? Да труженик всё чувствует полнее и глубже. Он живет, а не выдумывает всякие теории для оправдания собственной лени.
— Однако вы не стесняетесь в выражениях.
— Говорю, как умею. Добавлю только, что мы своей работой уже достигли того, что и любой рабочий кое-что знает об эстетике даже теоретически, так что нечего говорить об особенном, интеллигентном человеке. Это вот действительно старо.
— Значит, мы старье.
— Рассуждения ваши — старье.
— Ну, знаете ли… Старье! Старье… Однако мы были покладистей с людьми. А за вашими словами приговор слышен. Только и всего. Не так рассуждаешь — и по затылку тебе. Это уж не вяжется с вашей эстетикой — всё для человека.
— Не вяжется, говорите?
— А вы разве не видите этого?
— Нет, не вижу. Просто мы не уважаем лень. И чем дальше пойдем, тем больше будем ее презирать. А там как угодно.
— Ну зачем ты так, Паша? — расстроенно шепнула Надя, наклонившись к нему. — Это ведь старые друзья нашей семьи…
— Ну что ты. Ты не так меня поняла. Да пусть бы они в чем-то побили меня — ей-богу, обрадовался бы! Даю честное слово. А поспорить я не боюсь ни с кем. Зачем же обижаться?
— Ну, хватит об этом. Лева, спой, — обернувшись к одному из парней, попросила она.
— С удовольствием, Наденька.
Она снова села к роялю, Лева стал рядом.
Он пел неплохо, приятным тенором. Павел Васильевич сел. Гости тоже сели — кто к столу, кто на кресла. На Павла Васильевича снова никто не обращал внимания. И он был рад этому. А Лева пел и пел одну песню за другой. Павел Васильевич смотрел, как бегают по клавишам Надины пальцы, и не видел ничего более.
Вдруг она тряхнула головой, обернулась к певцу и заиграла какой-то незнакомый мотив. Лева улыбнулся понимающе и запел.
Это была вульгарная песенка.
«Что это такое! — поразился Павел Васильевич. — И она любит это?»
Песня эта так не шла к настроению Павла Васильевича, что он растерялся. Гости, однако, встретили ее одобрительным шумом.
Исполнили еще какую-то песенку.
«Как же она может? Что же это такое?» — недоумевающе думал Павел Васильевич, широко открытыми глазами глядя на нее.
А Надя играла и играла. И Лева пел и пел. Он пел и о любви, и о коварстве, и еще о всякой всячине. Пел и плохое, и хорошее. Их уже не слушали. Один гость что-то оживленно рассказывал двум женщинам, другой старался оттеснить его; оба не желали уступать и кричали наперебой. Что-то обсуждали девушки с парнями; парни старались и тоже не хотели уступать друг другу. А за столом двое пожилых гостей допивали вино и пьяно говорили о своем. Шум стоял невероятный.
«Куда они лезут друг перед другом? Чего им надо? Зачем каждый старается быть на виду, чтобы его только и видели и слышали? — думал Павел Васильевич. — Каждый по себе, каждый только за себя старается, и ни черта не поймешь. И сиди, и молчи, и никому до тебя дела нет. А я бы тоже спел. Широкую, русскую спел бы. Но из-за этого надо спорить, шуметь с Левой. И что он торчит около нее? Что он прилип к ней?..»
Голова гудела от этого шума, было отчего-то обидно и неприятно, и он вышел. Закурил на кухне.
Было уже темно. «Домой пора, — подумал он. — Но как проститься с Надей? Посидеть бы с ней, поговорить…»
Он не зажигал света, курил в темноте, стоя лицом к кухонному окну.
— Кто это тут? — неожиданно услышал он голос Лидии Григорьевны.
— Это я, не бойтесь.
— Вы, Павел Васильевич! — удивилась она. — Чего вы здесь? А я думала, вы — там.
«Вот как, — усмехнулся он про себя. — Есть я или нет, даже и не заметит никто».
— Покурить вышел, — пояснил он.
Лидия Григорьевна подошла к нему. Она была навеселе.
— Покурить? Ну и хорошо! А я