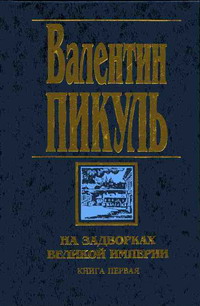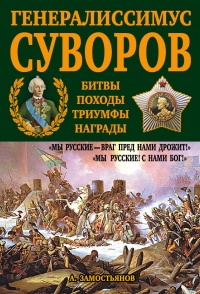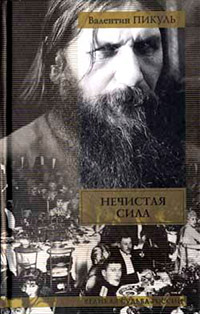Книга Слово и дело. Книга 1. «Царица престрашного зраку» - Валентин Пикуль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Чего уж тут! — подскочил князь Николашка. — Если бы я при государе состоял, я бы не так плох был… Давайте бить Ваньку.
Княгиня Прасковья Юрьевна вступилась за сына старшего:
— Уймитесь, окаянные! Полно вам Ванюшку-то мучить…
На пороге, разматывая заледенелые шарфы, явился черный арап Петра Великого — Абрам Ганнибал, и лицо негра, в трещинах, лоснилось от гусиного жира. Кинулся к Ваньке, целовал его:
— Милостивец мой! Сокруши печали мои… Бежал я из Селенгинска, куда сослан был Голиафом прегордым — Меншиковым. У границ китайских службу имел, худо мне! Хотел в землях чужих утаиться, да не привелось за рубежи бежать — шибко стерегли меня…
Тихо стало в доме Долгоруких. Едва-едва опомнились.
— Пентюх чумазый! — сказал князь Алексей Григорьевич. — По дороге-то к нам заезжал ли ты куда-либо?
— Нет, — отвечал арап. — Из Селенгинска — прямо к вам!
— Ступай вон, — заговорила Прасковья Юрьевна. — Опоздал ты шибко: ныне от нашего дома фавору тебе не выпадет.
— Дурак ты, Абрамка, — сказал князь Иван. — За милостями новыми езжай в Питер до Миниха.
Абрам Ганнибал с колен поднялся. Выпученными глазами (а в них — степи, вьюги, версты, безлюдье) оглядел всех и с криком выскочил… Еще тише стало в доме Долгоруких. Мучались.
— Кажись, — прислушалась Прасковья Юрьевна, — подъехали… А кто подъехал к дому нашему — не худой ли кто? Выгляньте.
Аленка, младшая, протаяла ртом замерзшее оконце.
— То царица порушенная! — заверещала. — То Катька… Вошла «ея высочество» — подбородок кверху. В чем была, прямо из саней, так и примостилась у стола. Скатилась с головы ее шапка, открылся затылок невесты — нежный, молочный.
— Вот и отцарствовала свое! Примите, родители дорогие, царицу на постой прежний. Уж не взыщите, миленькие: есть да пить из вашего корыта, как ране, стану… — И завыла вдруг, страшно, по-волчьи:
— Это вы виноваты-ы… Плясала бы сейчас в Вене со своим Миллезимчиком! А ноне брюхата я сделалась! Травить надо! Дите царское — беды ждите… Он — престолу наследник, дите мое — корени петровского… от дому Романовых!
В эту ночь князья Долгорукие испепелили в прах подложное завещание. Одно — царем не подписанное (чистое), а другое — то, что подмахнул за царя князь Иван. Не знали они, что делать с Катькой — рожать ей дитятю от корени царского или затравить его сразу, еще во чреве?
И замутилась земля Русская от слухов московских.
— Что деется? — толковали всюду. — Люди фамильные, ненасытные опять ковы противу нас строят. Что они там говорят по ночам? Или в окно давно не летали? Так мы их пустим…
Отзывалось по домам и трактирам не шепотом, а в голос:
— Не токмо мы, шляхетство служивое, но и люди знатные кирпичи уже собирают — верховных бить станут! То им не пройдет даром, чтобы замышлять тайно… Эка, придумали: вместо единого царя — целых восемь на нашу шею. Доконают нас совсем, хоть беги!
И на всю Москву раздавался гневный рык Феофана Прокоповича:
— Благочестива Анна избранная, и самое имя ее Анна с еврейского на благодать переводится. Но чины верховные сию благодать от нас затворили. Быть всем нам сковану тиранией, коя у еллинов древних олигархией прозывалась. А русский народ таков есть мудрен, что одним самодержавием сохраниться может…
Граф Павел Ягужинский нюх имел тонкий, собачий: за версту чуял, где повернуть надо. Верховные не допустили его до дел министерских — теперь мстить им надо!..
— Сумарокова сюда… пусть явится Петька. Петр Спиридонович Сумароков, будучи адъютантом графа, носил звание голштинского камер-юнкера.
Ягужинский взял парня за плечо, к свету придвинул:
— Ведаю, что люба тебе дочь моя. И то — дело! Быть тебе в зятьях у меня, только спроворь… — И кисет с золотом в карман Сумарокову опустил. — Езжай на Митаву с письмом к герцогине…
— Негоже мне ехать, — заробел адъютант. — Я при голштинцах состою. Петр Ульрих, 1'enfant de Kiel, соперник Анне Иоанновне в делах престольных. Да и заставы перекрыты: поймают — бить учнут меня… Худо будет!
— На голштинство свое плюнь, — отвечал Ягужинский. — Тишком поедешь. Да слушай… Герцогиню науськай, чтобы депутатам не верила. Истинно узнает все, когда на Москву прибудет. А когда станут ее понуждать, дабы кондиции те мерзкие подписала, то пущай рыпается, сколь можно… Осознал, Петька?
— А ежели герцогиня спросит меня, кто в Совете просил воли царской ей поубавить, то как отвечать мне? Ягужинский сам о воле кричал и — уклонился:
— Так и скажи ея величеству: мол, всякие кричали, большие и малые. Орали по-разному! А старайся объявить герцогине все тайно. И не мешкай с отъездом. Быть тебе потом зятем моим.
— Дорога опаслива. Спросят подорожную — где взять-то?
— Заяц ты у меня! — осерчал Ягужинский и опустил в карман адъютанту второй кисет с золотом. — Еще зятем не стал, а уже убыток мне учинил… Разорил ты меня, еще не отъехав!
На том они и расстались: Сумароков стал собираться.
Вскипая над пламенем свечи, стекал сургуч. Феофан Прокопович пришлепнул его печатью, и пакет с письмом на Митаву живо скрылся в подряснике монашка.
— Скачи, — велел Феофан. — Здесь все сказано, а ты помалкивай… Иди ближе — под благословение мое! Перстами осененный, монашек спросил хрипато:
— А ежели словят на заставе? Тады как? Убьют ведь…
— Червяка видел? — спросил Феофан. — Он куды хошь ползет, и никто не усмотрит путей его, ан, глядь, и вылез… Тако и ты поступай. А коли словят, быть тебе в обители Соловецкой! До смерти намолишься там святым угодникам Зосиме и Савватию…
Монашек выскочил рыбкой — словно пьяница из кабака. Феофан сжал кулаки, возложил их перед собой, размышляя.
— Горе вам, книжники и фарисеи, — сказал… Полвека прожил. Из купцов вышел, науки от иезуитов восприял. Сам папа Климент XII благословил его. Пришлось Феофану, уже бороду, имея, опять в купель прыгать («из веры подлыя кафолический приять вновь веры православныя»). Петр ему большую власть дал. Заиграет Феофан в Синоде — другие только поплясывают. Возле Петра хорошо было. При Петре-то Феофан разумом светился.
«Слово похвальное о флоте российском» написал. Зверинолютейший «Духовный регламент» изобрел, в коем способы указал — каково противников церкви живьем сжигать, а жилища их разорять. Инквизицию Феофан создал при Синоде такую, что округ него на версту жареной человечиной пахло. Кто противился — того на дыбу! Хорошо людей жрать и монахами закусывать…
— Просвещенному деспотизму быть! — сказал Феофан. Теперь все надежды на Курляндскую герцогиню. И сейчас было страшно ему, что Анна Иоанновна не будет самодержавной… Чьим рабом станет тогда мудрый Феофан? Чьим именем раздувать костры церковной инквизиции? Верховные министры такой воли ему не дадут. А врагов у Феофана немало — только святым огнем их убрать можно…