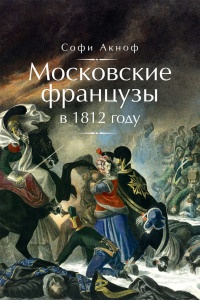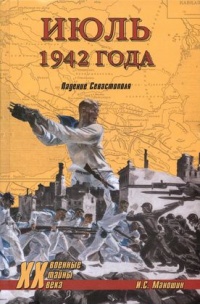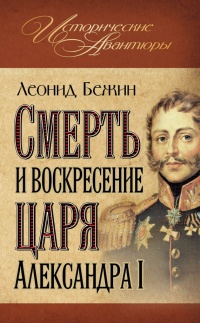Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вполне возможно, что Гзовскую отличали честолюбие и даже хитрость, но считать ее соперницей Найденовой было смешно. Удельный вес этих актрис был слишком разный. Найденова могла быть хороша в пьесах Островского, но ни общей культурой, ни техникой Гзовской она не обладала и оставалась рядом с ней безнадежно провинциальной.
Кометой из другого мира промелькнула в Малом театре Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова (дочь известного провинциального актера Рощина-Инсарова и сестра Веры Пашенной). Проиграв один сезон, она перешла в качестве примадонны к Незлобину. Вот ее уж никак нельзя было назвать «провинциальной». По технике и по внешности она являлась актрисой французского типа. Небольшого роста, худая до пределов возможного и как бы «невесомая», она обладала необычайно сильным, порой даже истерическим темпераментом, прекрасным голосом и большой выразительностью лица и жеста.
Все упомянутые мною актеры (за исключением Гзовской) и многие другие (среди них и самые знаменитые) бывали на Пречистенском бульваре — некоторые часто и запросто, а другие раз в год, 5 декабря, когда праздновался канун именин Николая Борисовича и за ужином пела Татьяна Константиновна Толстая с «капеллой», состоявшей из представителей семейства Шереметевых и Обуховых. Главным гитаристом капеллы был Павел Сергеевич Архипов, тихий человек с грустными глазами, молчаливо влюбленный в Надю Обухову.
Празднование именин назначалось не 6 декабря, в Николин день, а накануне, потому что в этот вечер, по случаю торжественной Всенощной, спектаклей в Императорских театрах не полагалось и все актеры оказывались свободны. Съезжаться начинали в 11 часов вечера, когда в зале уже стояли столы с холодным ужином. Расходились гости не раньше рассвета. Попасть на этот вечер было нелегко, так как Николай Борисович сам составлял списки приглашенных. Им охотно допускались все деятели театра и посетители Давыдовских четвергов. Мне обычно удавалось протащить несколько человек своих сверстников, но маминых «светских» знакомых дядя Коля подвергал строгому отбору, что иногда порождало обиды.
С половины ужина начинали раздаваться звуки гитарных аккордов, Татьяна Константиновна отставляла в сторону рюмку с «кроновской» (ссылку давать или бог с ним?) мадерой (единственное вино, которое она пила), сама брала в руки гитару и запевала «Снова слышу голос твой, слышу и бледнею». По правую руку от нее обычно садился Александр Трофимович Обухов и с большой музыкальностью вторил ей своим высоким, несколько сдавленным тенором.
Татьяна Константиновна пела много и не заставляла себя просить. Лишь изредка она просила дать ей передышку, и тогда выступали «канарейки» — так звал Александр Трофимович своих племянниц Надю и Аню. Они пели дуэтом неаполитанские песни и романсы сочинения их дядюшки, из которых наибольшим успехом пользовалась «Калитка». Надя Обухова в ту пору училась в Консерватории по классу профессора Мазетти. Доказывать, что у нее был чудесный меццо-сопрано, — это ломиться в открытые двери. Теперь об этом знает вся страна и — благодаря радио — весь мир. Я же, когда слышу ее пение (тоже, к сожалению, лишь по радио), «слышу и бледнею» от наплыва воспоминаний.
Пока пела Татьяна Константиновна, я наблюдала, как все присутствующие поддавались постепенно очарованию ее исполнения и как это выражалось на их лицах. Лопатин одобрительно качал головой, поглаживал бороду, Ключевский в восторге закрывал глаза, а Иван Михайлович Москвин, подперев по-бабьи свою широкую щеку, повторял: «Да! Вот это настоящее!» В конце ужина, когда бывали пропеты величания имениннику, хозяйке дома и знатным гостям вроде Ермоловой, все просили сплясать Алексея Викторовича Ладыженского: помню его узкое, смуглое, породистое лицо охотника и лошадника, он ходил всегда в поддевке и с серебряной серьгой в ухе. Ладыженский был близким другом Татьяны Константиновны, друзья звали его «заяц», и ни один цыган не мог соперничать с ним в цыганской пляске. Благодаря исключительному чувству ритма и четкости движений он на пространстве в два-три метра добивался огромного эффекта, и его выступление всегда вызывало овацию.
Вспоминая вечера на Пречистенском бульваре и сравнивая их с «пиршествами» последующих времен, я удивлялась, насколько чинно и благопристойно люди тогда умели веселиться. Публика была самая разнообразная, вино текло рекой (особенно шереметевский «Карданах»), и все же самым шокирующим инцидентом, о котором с ужасом вспоминали долгое время, оказалось то, что суфлер Зайцев, в ответ на просьбу актера Васенина передать ему сыр, отрезал кусок сыра, положил себе на ладонь, подбросил в воздухе и только потом передал приятелю. Теперь мне кажется, что это преступление против хорошего тона было совсем безобидным.
Помню, как однажды часов в 6 утра Татьяна Константиновна решила наконец ехать домой, а Борис Борисович Шереметев, находя, что расходиться еще рано, встал во весь свой саженый рост, сделал повелительный жест рукой и тоном, не допускающим возражений, произнес: «Tulon! chantez!» Тюля со смехом подчинилась и пела еще час.
Из всех гостей, бывавших на Пречистенском бульваре в канун Николина дня, меня особенно радовал своим появлением дядя Никс Чебышёв. Он мне был мил, как университетский товарищ отца и как человек, с которым у меня были связаны детские воспоминания (неодолимую тягу к прошлому я ощущала с ранних лет).
С тех пор, как я в последний раз видела дядю Никса на похоронах дедушки Сиверса в 1902 году, прошло много лет. После службы в Смоленске он в 1908 году был назначен товарищем прокурора в Москву и пришел повидать меня. Я сидела на ступеньках террасы и усердно готовилась к экзамену по истории. Дядя Никс был поражен, когда «маленькая Танюша» (которая успела вырасти) с места в карьер сообщила ему, что жирондисты были за местное самоуправление, а монтаньяры — за централизованное. Этими умными словами я завоевала его дружбу. Мою дружбу и восхищение он завоевал, когда на следующий день, проходя со мной по Борисоглебскому переулку, указал на дом, в котором поселился со своим приятелем Иваном Леонтьевичем Томашевским, и сказал: «А вот здесь находится хижина дяди Тома-Шевского!»
Дядя Никс, как мне теперь кажется, был очень умен, но никогда не говорил заведомо умных вещей и был склонен к шутке, подчас злой. Внешне Чебышёв был некрасив лицом (заметно косил на один глаз), но высок, широкоплеч и, по моим наблюдениям, имел успех у женщин (после развода с тетей Лилей он уже больше не женился). В юридическом мире дядя Никс считался блестящим оратором с явно либеральным уклоном. Его обвинительные речи были изданы отдельной брошюрой. Среди них выделялась речь по обвинению убийцы Ваймана (дело слушалось в Московском окружном суде) и позднее выступление на процессе представителя кутящей купеческой молодежи Прасолова, застрелившего в ресторане Стрельны свою жену. Имя Николая Николаевича еще встретится на страницах моих воспоминаний, а пока я с ним расстаюсь и перехожу к другим сторонам моей жизни в гимназические годы, позволяя себе предварительно небольшой экскурс в область социологии (в порядке дискуссии!).
Когда я слышу, что Россия пережила, наподобие западноевропейских стран, период «господства буржуазии», это мне кажется малоубедительным. Во всяком случае, этот период был очень кратковременным. Известные мне три поколения торгово-промышленного класса — смекалистые стяжатели, их дети, уже ничего не приобретающие, и их внуки с явными признаками вырождения — никак не могут быть поставлены в один ряд с организованным и вполне осознавшим себя классом западноевропейской буржуазии, которая, как у Голсуорси или Пруста, настойчиво атакует самые неприступные цитадели аристократии и постепенно проникает в них.