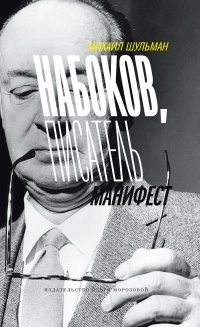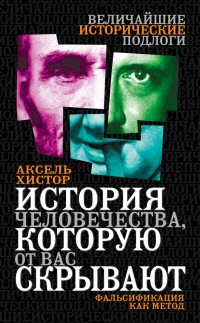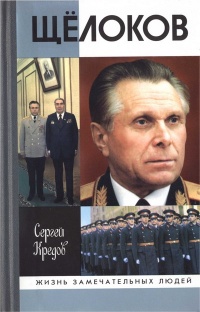Книга Врубель - Вера Домитеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Узнав, что я нанимаю мастерскую, двое приятелей Серов и Дервиз пристали присоединиться к ним писать натурщицу в обстановке renessance, понатасканной от Дервиза, племянника знаменитого богача… Моя мастерская, а их натура. Я принял предложение.
Собственная мастерская — это прекрасно, это работа на свободе, средство сбежать от ненавистной подражательности:
— Вон из-под роскошной тени общих веяний и стремлений в каморку, но свою — каморку своего специального труда — там счастье!
Откуда же, однако, взялись средства снимать мастерскую, притом что намеченное репетиторство срывалось, надежды рисовать для журнальных редакций не сбывались, отцовская помощь отвергалась и Михаил Врубель был на мели? Явились деньги единственно возможным образом — присылала сестра. Часть своего жалованья наставница оренбургских институток «чудный человек Нюта» ежемесячно отправляла брату в Петербург. Это было их тайной: временные займы, которые Михаил вот-вот вернет с лихвой. Но тайной, болезненно переживавшейся самим Врубелем.
Началось с того, что впервые полученный от Анны щедрый денежный подарок заставил Врубеля, взяв лишь сумму, спасавшую от отчисления из Академии художеств, твердо и не щадя себя объясниться с сестрой:
— Остальное прошу, моя Нюточка, не обижаясь, принять обратно. Я буду говорить совершенно откровенно, если хочешь — цинично. Я вовсе не горд — это не достаточно сильно: я почти подл в денежных отношениях — я бы принял от тебя деньги совершенно равнодушно, если бы это не повлекло за собой другой подлости: скрывать, что ты — источник моих доходов, потому что признаться в этом — значит слишком уже не бояться презрения даже людей близких, на что я уже совершенно не способен.
Брат просил впредь не искушать его: «Не ставь ты соблазнов моей слабости».
Анна (недаром брат ласково называл ее «мамашечкой») уговаривала, что сейчас главное для Михаила и лично для нее — его работа.
Его работа! Тут было не устоять… Живя одной работой, здесь он был чист. Цифры «займов» оговаривались четко: ровно столько, чтобы уплатить очередной взнос за учебу, за аренду мастерской, ни рублем больше. И скоро, скоро он отблагодарит сестру, докажет отцу и родне, что не ошибся, сменив юристику на живопись.
Победа, верилось, не за горами. Ведь не только кружок преданных чистяковцев — вся академия, все руководство школы, включая закоренелых недоброжелателей Павла Петровича и его фаворитов, признает в Михаиле Врубеле едва ли не наследника Рафаэля. И пусть с медалями, главным мерилом академических успехов, постоянно какие-то осечки. Медали это ерунда, убеждал Врубель верного Серова: «Первые номера все равно получают только тупицы, и стремиться к ним незачем». Пускай экзаменаторы морщатся на незавершенность его этюдов, когда ему самому нет надобности заутюживать остро взятые акценты эталонной гармонической гладью.
Однако чем, как не гармонией, пленяет удостоенная-таки малой серебряной медали композиция «Обручение Марии с Иосифом», перед которой всегда толпа учащихся. Ни одно упоминание этого большого, изящно подцвеченного сепией перового рисунка не обойдется без эпитета «рафаэлевский», иначе не назвать восхитительно ненатужное единство изобретательной детальности и абсолютной образной ясности. Возносящаяся меж высоких колонн лестница, с обеих ее сторон живописно теснятся группы пришедших в храм, наверху по центру священник, соединяющий новобрачных, — композиция словно сама собой выстраивает схему устойчивой пирамиды, вызывает непременную ассоциацию с рафаэлевской фреской, умиляет преданностью классике. Работа, слов нет, виртуозная.
При подготовке торжества в честь четырехсотлетия со дня рождения Рафаэля транспарант на фасаде Санкт-Петербургской академии художеств было поручено сделать Михаилу Врубелю, и аллегорию Гения — летящую над суетой классически совершенную деву в античном хитоне — этот студент исполнил к полному удовольствию академических светил. Особая благосклонность ректората подтвердилась заказанным вскоре Врубелю транспарантом ко дню рождения цесаревича.
У Рафаэля в русской духовной культуре статус вершинный. Гравюрные копии «Сикстинской мадонны» напоминанием о вечной красоте украшали дома многих образованных людей, скажем, квартиру Достоевского. Что говорить об академии, для которой искусство Рафаэля — идеал, а сам великий мастер — своего рода святой покровитель цитадели непререкаемого классицизма. Столь же благоговейно чтил божественного Санцио Михаил Врубель. Однако юбилейные торжества — а Рафаэля в стенах Академии художеств чествовали даже дважды: в марте 1883-го парадно и официально, с присутствием избранной публики и особ императорской фамилии, затем в апреле, уже только своей корпорацией, на вечере академистов, — и серия юбилейных публикаций и репродукций побудили заново обдумать творчество кумира.
Михаил Врубель. Автопортретный этюд для композиции «Гамлет и Офелия». Бумага, карандаш. 1883 г.
Обручение Марии с Иосифом. Бумага, сепия, перо, акварель. 1881 г.
Пунктирно излагая в письме вызревшее у него «свое учение о Рафаэле», Врубель дерзко свергает ложноклассических идолов, не смущаясь перечислением знаменитостей как иностранных («разных Энгров, Делакруа, Давидов…»), так и отечественных («Бруни, Басиных…»). Все корифеи европейских академий, в том числе русской, на его взгляд, упрощали и огрубляли Рафаэля, все их трактовки рафаэлевских заветов не более чем «переделки Гамлета Вольтером». И ореол сентиментальной святости навязан гению упадком вкуса следующих веков. Подлинный Рафаэль велик, ибо «он глубоко реален».
Смело и от души, и почти в точности по Чистякову. Но «реализм»? Уж не качнуло ли пылкого Врубеля в сторону порвавших с академией поборников демократически-реалистического жанра? А Врубель, видимо, и к реализму живопись этих художников, однобоко озабоченных политикой и бытом, не причислял. Нет, реализм — это «глубина и всесторонность». Истинно рафаэлевский реализм во славу самостоятельных прав живописи, залог «величавости будущего здания искусства». И — «как утешительна эта солидарность!».
Разумеется, солидарность с Рафаэлем следовало подтвердить собственным холстом. Личным живописным созвучием с высокой правдой «чудных, дышащих движением композиций». Картиной, своей картиной. Правда, Павел Петрович Чистяков писание картин учениками не поощрял, полагал — рано. Но как удержаться, когда чувствуешь, что готов. Тем более что Репин часто видится с Врубелем и, противоположно Чистякову, твердит:
— Начинайте вы какую-нибудь работу помимо академии и добивайтесь, чтобы она самому вам понравилась.
К тому же радушные Папмели давно с нетерпением ждут, когда их замечательно искусный друг (как дивно нарисован его карандашный портрет Володи Папмеля!) порадует настоящим своим произведением. А Леопольд Кениг, желая дать реальный стимул, сделал уже и заказ на картину, и сколь великодушно — жанр, тема, техника на усмотрение художника. Заранее обозначен лишь один пункт — гонорар в 200 рублей. Неплохо, разом можно будет освободиться от мерзких финансовых проблем, утвердить репутацию, заявить творческую зрелость. Да и какие особенные сложности?