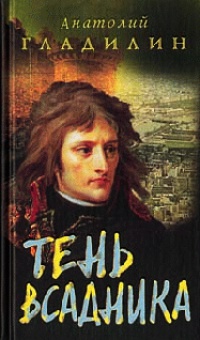Книга Завещание убитого еврейского поэта - Эли Визель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Потому что поминаю Мессию? А тебе известно, что существует целая традиция, в которой говорится о непредсказуемом явлении этого посланника свыше. Спаситель возникнет неожиданно в момент, когда его меньше всего ждут.
— Я не люблю ни такого рода сюрпризов, ни таких избавлений от напастей. Коммунизм — это нечто иное. Он учит действовать здесь и сейчас, готовить революционные потрясения, в корне менять жизнь не магическими формулами, но работой и политическими акциями. Тебе предстоит еще многому научиться.
Стараясь ей понравиться, я напряженно работал. Деньги, которые посылал отец, чтобы мне хватило на жизнь и на плату за «обучение», я делил с партией, вернее, с некоторыми из ее членов. А точнее — я помогал продержаться нуждающимся приятелям и товарищам. Если у меня еще что-то оставалось, а это бывало нечасто, я все отдавал Инге, а она передавала Гауптману, который делал взнос в специальную кассу.
Приближались выборы 1932 года. Эта избирательная кампания стала моим личным делом, словно я считал, что от нее зависит мое будущее. Я почти не спал. Писал статьи и выпускал листовки на идише, затем Инга помогала мне переводить их на немецкий. Я бегал с одного собрания на другое, с демонстрации на демонстрацию, я кричал с дорогими сердцу Гауптмана массами, маршировал с ними, дрался ради них, сначала с помощью лозунгов, а потом и кулаками, ходил во главе их шествий с красным флагом в руках, неся его так же трепетно, но решительно, как мой отец в Льянове — священные свитки.
Я ждал решительной победы, Инга — тоже. Как и Гауптман. Между тем Гауптман переменился. Похудел: его пожирал какой-то тайный огонь. Может, он сомневался в результате? Он не жалел себя, как и все мы, но по мере приближения выборов что-то все более и более беспокоило его.
Однажды, когда мы направлялись на одну из демонстраций в предместье, я тревожно спросил его:
— Что с тобой творится, Бернард? Ты явно не в своей тарелке.
— Я устал, вот и все. Заработался.
— Ну, еще несколько дней, и ты сможешь отдохнуть.
— Через несколько дней только и начнется настоящая работа.
— Что ты имеешь в виду, Бернард?
— Мы одержим победу, народ возьмет верх — и вот тут-то нам придется взять на себя ответственность за все это, — улыбаясь, объяснил он.
Если он и сомневался, то лишь в своей готовности принять власть, поскольку был уверен, что массы потребуют от него этого. Мы разделяли его веру в предопределенность исхода. Ведь мы вели искреннюю борьбу ради торжества народа, во имя сражающегося рабочего класса, и наша победа была неизбежна. Сама история хотела этого, а мы покорялись ее велениям.
Конечно, в высших сферах партии обсуждались коалиции и союзы с другими партиями, исключая нацистов. Но для нас все было проще: мы замечали лишь контуры пейзажа, который избиратели нарисуют своими бюллетенями. Бедняки, безработные, люди без пристанища — их считали на миллионы. Они-то не могли нас не избрать: мы говорили от их имени, провозглашали их право на достоинство, сражались, чтобы помочь всем голодающим и жаждущим сочувствия.
Помню, какую речь произнес Гауптман накануне голосования: «Перед тем как опустить бюллетень, задумайся. Остановись, рабочий! И ты, жена рабочего! Просто подумайте. На секунду помедлите и мысленно спросите себя, что вы предпочитаете: стыд и милостыню или добросовестно заработанную плату, ненависть или солидарность? Подари мне эту секунду, товарищ, прежде чем сделать выбор, который определит твое будущее…»
Инга же тогда сказала вот что: «Мои родители богаты, их друзья тоже. Они никогда и мизинцем не пошевелили, чтобы заработать себе на кусок хлеба. На них работали другие. Я ушла от них, а знаете почему? Чтобы порвать цепи зла и помочь выковать рабочее братство… Товарищи, я предпочитаю своим родителям вас…»
А я аплодировал, аплодировал до потери дыхания. Мой немецкий оставлял желать лучшего, я почти им не владел, а потому никогда не брал слова. Тем не менее однажды я все-таки произнес речь, но на идише — перед группой… сионистов. Не знаю, почему эти люди меня освистали: из-за моего языка или политических идей. Они-то ждали выступления по-немецки. Я спасся бегством и выслушал издевательский комментарий Инги.
— Ну… это был настоящий триумф… сионистской идеи!
Пришел день выборов. Проведя бессонную ночь и с самого утра устроившись в кафе «У Блюма», мы чашку за чашкой глотали черный кофе, ожидая первых новостей. Гауптман регулярно уходил туда, где заседала его партия, и возвращался, отрицательно качая головой: слишком рано, чтобы сделать выводы! Тянулись часы. Инге не сиделось на месте, она отправилась за новостями в редакцию «Вельтбюне», где у нее имелся знакомый политкомментатор, — никаких известий. Она забежала в «Романише кафе», что на Будапештштрассе, и вернулась, задыхаясь, совершенно вне себя: первые результаты показывают удивительный рост голосов за нацистов… Гауптман поднял руку, умеряя нашу панику: тот квартал обработан Геббельсом, это ничего еще не доказывает…
Однако после второй бессонной ночи мы уже имели все резоны паниковать: налицо был гигантский всплеск популярности гитлеровцев. Цифры карабкались вверх. Всего за два года их фюрер набрал шесть миллионов голосов.
Инга уже не сдерживалась: всхлипывала, не останавливаясь. Гауптман приобнял ее рукой за плечи — и, странное дело, именно этот жест меня потряс больше, чем слезы моей подруги. Может, он все еще ее любил? Может, мне не надо было их разлучать? Вместе они — чего только не бывает! — одержали бы победу… Ко мне вернулись старые мои льяновские наваждения, ощущение, что это я виноват во всем. К счастью, никто на меня не обращал внимания.
По непонятной мне причине Инга предпочла не возвращаться домой со мною, она уехала отдохнуть к своим родителям, на их виллу под сенью лип.
Таким образом, прощаясь, каждый из нас троих ушел из кафе в одиночестве.
Наша группа больше никогда не обрела былого единства. На следующий день мы возвратились в кафе «У Блюма», вели себя, как обычно, но сердце отныне ко всему этому не лежало. Мы уже ощущали тяготевшее над нами проклятье, предчувствовали, что однажды оно обрушится на каждого из нас и пощады не будет.
Инга от меня съехала. Она заняла одну из комнат в квартире актрисы, игравшей в Театре Рейнхардта. Она меня разлюбила. По крайней мере, именно это пришло мне в голову, я ей так и сказал. Она ограничилась фразой, что наступили времена, когда у нас больше нет права на любовь. Я на это вынужден был ответить:
— Да нам теперь только и остается, что любить друг друга.
Бернард же, совершенно выбитый из колеи, говорил все меньше и меньше. Я его спросил:
— А как же быть с массами? С их мудростью, с их благодарностью… куда все это подевалось? Объясни, как шесть миллионов беднейших из бедных нашли причину проголосовать за еще большую бедность и тягчайший стыд? Объясни, Бернард, почему всякая шелупонь победила приличных и рассудительных людей?
Гауптман посмотрел на меня и промолчал. Ему нечего было ответить, он понимал не больше моего.