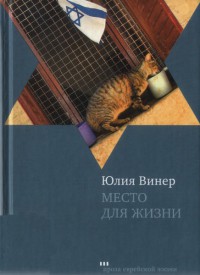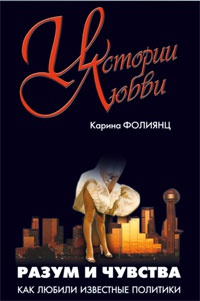Книга Былое и выдумки - Юлия Винер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В Москве к рассказам моим никто не отнесся серьезно. Комментировали со снисходительным юмором. К рассказам других, видимо, так же. Ни в прессе, ни по радио и телевизору нигде ничего не было. Так это и осталось нашей общей загадкой.
Деньги, оставшиеся перед отъездом в нашей кассе, мы делить не стали – купили на них приличные билеты на поезд и припасы в дорогу. В дополнение к зарплате (которой я не видела, и сколько там было – не интересовалась) я, как и все, получила за свои труды мешок пшеницы. Его я мгновенно продала нашему водовозу, до сих пор помню, за восемь рублей. Эти восемь рублей я и привезла домой с целины.
Я рада, что побывала там.
Моя сочинительская карьера началась рано и успешно. Кабы и дальше так.
Закончив сценарное отделение ВГИКа, я начала стряпать мелкие сценарии для научпопа и экранизации для телевидения. Занятие тоскливое, хотя в финансовом отношении весьма полезное. И с тоски стала пописывать свое. Стихоплетством я отзанималась в положенное для этого время – где-то с шестнадцати до двадцати, то есть когда я еще ничего толком не знала ни о людях, ни о себе. И хотя стихи мои мне очень даже нравились, что-то подсказывало мне, что они из тех, какие можно писать, и даже печатать, а можно и не писать, и не печатать. Поскольку такого добра вокруг было море разливанное, самолюбие не позволяло мне капать в него и свои капли. Со стихами было покончено.
Однако мысль о том, что мне предстоит всю жизнь зарабатывать на хлеб сценариями, и от меня всегда будут требовать – тут заменить мальчика на девочку или старуху на молодого спортсмена, там превратить смерть персонажа в излечимую болезнь, а нищету и унижения исключить начисто, – эта мысль сильно меня угнетала. Это я говорю об общей и самоцензуре, но подчиненное, зависимое положение сценариста угнетало не меньше. Напишет сценарист интересный сценарий, но кино-то он сделать не может, а сценарий сам по себе ценности не имеет. И власти над его дальнейшей судьбой автор тоже не имеет. Отнесет свое сочинение на студию, а там каждый – цензор, редактор, режиссер, даже директор картины – волен менять в нем, что и как ему кажется правильней. И отдадут этот сценарий по коньюнктурным соображениям кому надо, и получится из него такая хрень, что автор своего детища не узнает.
При поступлении в киноинститут об этом как-то не думалось, а о профессии сценариста вообще у меня было тогда самое смутное представление, почерпнутое в основном из заманчивых рассказов знакомого режиссера Гриши Чухрая. Кое в чем Гриша не обманул: учиться было интересно, приятно и даже полезно. Но, когда появился небольшой собственный рабочий опыт, сильно захотелось профессию эту бросить. Я и бросила.
Краткое время, за неимением лучшего, поэкскурсоводила в музее-усадьбе Архангельское, там было легко и привольно, но очень уж далеко ездить, и зарплата ничтожная.
Затем взялась за языки, которые всегда привлекали. Тоже хорошее занятие. Но вот беда: рука-то уже поднаторела в писании и требовала – продолжай! Не хочешь сценарии, пиши что-нибудь другое. Так, вероятно, и происходит графоманство – все равно, чтó писать, лишь бы писать. Вернее, на машинке печатать. Я поддалась соблазну и написала несколько небольших рассказов. Сочинять на основе собственных событий и переживаний я и не умела, и стеснялась, и взялась за самую далекую от моей жизни сферу – деревня, провинция, – куда я ездила на институтскую практику, «собирать материал». Правда, и деревня, и провинция произвели на меня сокрушительное впечатление, так что собранный «материал» напоминал вставшие от шока дыбом волосы.
Рассказов, помнится, было четыре или пять, и все они, даже на мой теперешний взгляд, не содержали в себе ни малейшей ереси и уж точно никакой антисоветчины. А тогда я и подавно считала их безупречно цензурными. Сохранился у меня только один, притом самый невинный:
Настя из столовой
Городок быстро рос, и чайную около пристани превратили в столовую. Там перестали продавать спиртное и ввели самообслуживание. Трех подавальщиц уволили, осталась одна, Настя. Она резала хлеб, вытирала покрытые линолеумом столы, вываливала в котел объедки с тарелок. Рабочие с пристани, приходившие сюда обедать, приносили водку с собой, и Настя, чертыхаясь, таскала им из кухни стаканы. Заведующая ругалась и грозилась выгнать; Настя боялась этого больше всего, но никогда не могла отказать мужчинам.
Когда-то Настя была молоденькой и пухленькой буфетчицей в белой крахмальной наколке, но теперь никто ее такой не помнил. Теперь по столовой, слегка подвертывая ноги, бегала сорокалетняя баба в штапельном платье, засалившемся на тяжелой груди. Редкие волосы, потускневшие и посекшиеся от химии, перьями торчали на маленькой головке, придавая ей сходство с толстой и бестолковой птицей.
С неопределенной усмешкой Настя сносила шлепки и шуточки знакомых рабочих, с незнакомыми неуклюже заигрывала, отпивала из любого стакана. Иной раз приезжий из деревни, потея в тяжелом ватнике, украдкой щипал ее, когда она пробегала мимо. Тогда Настя подсаживалась к столику, ежеминутно оглядываясь. Пристанские ребята знали, чего она боится, и кто-нибудь из них непременно кричал паническим шепотом:
– Полундра! Кузя идет!
«Кузей» прозывалась заведующая столовой, трижды в день ходившая домой с большими судками в обеих руках.
Настя в ужасе вскакивала, начинала торопливо тереть тряпкой сухой стол около своего нового знакомца. И только услышав радостный гогот парней, которым никогда не надоедала эта шутка, она понимала, что ее опять разыграли. Побледневшее одутловатое лицо ее снова покрывалось прожилками сизого румянца, она хихикала, растягивая опустившиеся уголки губ, и шепотом отпускала ругательство по адресу чрезмерно строгой Кузи. Это вызывало новый взрыв веселья, и Настя заливалась вместе со всеми.
Носить еду домой, как это делала Кузя, Настя боялась, да и стыдно было, и она часто задерживалась после работы на кухне, подъедая оскребышки, насыщаясь впрок. (Почти всю зарплату она посылала в Чебоксары сыну, кончавшему техникум, и квитанции от денежных переводов берегла как живое свидетельство родственной связи с ним.)
Нередко у выхода ее поджидала какая-нибудь темная фигура, примостившаяся между старыми пивными бочками. Настя быстренько подбивала левой рукой слежавшиеся волосы на затылке, а правой брала человека под руку. Если человек был слишком пьян, обхватывала его обеими руками за талию и бережно обводила вокруг луж. Случалось, что человек ругался, называл ее чужим женским именем, но Настя никогда не обижалась и была довольна, что у человека отойдет от сердца и ему станет легче.
Однажды у проходившего мимо горьковского парохода испортился котел в камбузе, и в столовую пришли обедать несколько пассажиров. Настя очень старалась обслужить их получше, хотя они этого и не заметили. Она нарезала хлеб тонкими ломтями и попросила судомойку лишний раз ополоснуть кипятком жирные вилки и ложки. Одна пассажирка пришла с детьми, и Настя шикала на постоянных посетителей, отпускавших обычные шуточки.