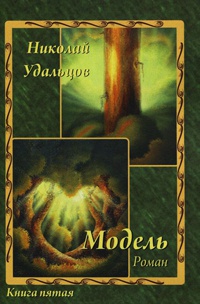Книга Взлетают голуби - Мелинда Надь Абони
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Матушка сидела напротив отца в коридоре, возле круглого журнального столика, пытаясь забрать у него телефонную трубку и заставить его говорить. Он же изо всех сил цеплялся за телефон и рыдал в трубку.
Прошло немало времени, пока отец смог наконец что-то произнести; в течение этой вечности голова его нелепо, беспомощно тряслась, тело сводило судорогой; охотнее всего я вернулась бы в свою комнату, еще охотнее забилась бы под кровать, как делают маленькие дети, сделала бы что угодно, лишь бы не видеть столь ужасной картины. Вместо этого я застыла, словно изваяние, а голова моя, загородив фонарь, превратила его в грязно-желтую луну, которая, глядя на нас, кривила рот в злорадной ухмылке; а вместо деревьев, которые я так любила, маячили недвижные тени. Я даже подумала было, что луна что-то сказала. Но оказалось, это у отца из сведенных губ вырвались наконец слова: мамика умерла.
Хороший священник – такой священник, который найдет нужные слова и замолчит, сказала однажды мамика, когда я, еще в детстве, спросила, почем у она всегда говорит: «Наш добрый преподобный отец». Мне вспомнилось это, когда я, молитвенно сложив ладони, смотрела, как двое мужчин на толстых веревках опускали в могилу гроб мамики, и, пока гроб погружался в черный проем, родственники, стоявшие вокруг могилы, все громче рыдали и причитали (1989 год станет важной вехой в моей личной истории, я наверняка буду многое вспоминать из того, что случилось в том году: и падение Берлинской стены, и мое удивление, когда швейцарские студенты с горящими глазами помчались в Берлин, чтобы присутствовать при разрушения этой страшной стены, а то и самим приложить к этому руку и ликовать, что они смогли приобщиться к такому историческому событию; наверняка мне вспомнится и что-то еще, но все же в моей истории это будет год, когда умерла мамика, и когда я в последний раз побывала на родине, и когда увидела отца таким, каким никогда не видела прежде), я, может быть, одна не хотела поддаваться общей скорби и, чтобы отвлечься, читала надписи на лентах, украшающих венки: «Покойся в мире! Любящие тебя сыновья», и другие в таком же роде; дорогая наша Анна, на кого ты нас покинула, рыдает одна из подруг мамики. И любящие тебя внуки, думаю я и, опустив голову, смотрю на свои туфли, ожидая момента, когда можно будет бросить на гроб цветы; я и сегодня помню неожиданно громкий звук, произведенный упавшим в могилу букетом, и напеваю про себя одну из любимых песен мамики: Была бы я рекою, не знала бы я горя, бежала бы долиной, веселой лентой длинной, поила бы деревья, кустов густых коренья, давала б малым птицам воды своей напиться…
Собравшиеся бросали на гроб мамики горсть земли, некоторые, с трудом сдерживая слезы, произносили несколько слов о трудной жизни мамики, у других, в том числе у отца, вновь и вновь вырывались рыдания; когда мы уходили с кладбища, немилосердно холодный апрельский день 1989 года шел к концу, и лишь каштаны, чей застенчивый весенний праздник был нарушен неожиданным возвращением зимы, в своей сияющей белизне, к счастью, не принимали всерьез тяжкую скорбь нашей процессии.
Девонька моя, говорила мамика, вода – она всего золота стоит.
У мамики я научилась носить воду из колодца и никогда не искала повода уклониться от этой обязанности, не задерживалась подолгу с пустым кувшином, глазея на розы и ночные фиалки, растущие возле колодца, или играя с тощей кошкой, которая, задрав хвост, терлась о мои ноги и которую мамика не упускала случая обругать дармоедкой и бездельницей; обеими руками держа эмалированный кувшин, я медленно, мелкими шажками двигалась к дому, стараясь не расплескать ни капли; жидкое золото, говорила мамика, моясь после меня в мутной, мыльной воде, в ванной комнате, которая одновременно была кухней; глаза мои не хотели смотреть туда, лишь со стыдливым любопытством щурились, чтобы прихватить хоть чуточку золота с бабушкиной кожи. Почему вы комбинацию не снимаете? – спрашиваю я, а мамика, распустив косу – седые волосы ее достают до бедер, – говорит: деточка, иди в сад, поиграй там немного, ну, иди же, и я подтаскиваю горчично-желтую скамеечку к стене дома, встаю на нее, сначала согнувшись, потом медленно распрямляясь, приподнимаю уголок цветастой занавески в открытом окне: мамика склонилась над эмалированным тазом, я вижу ее нагую спину и огромные розовые трусы, скорее казацкие шаровары, которые из-за резинок под коленками висят нелепыми пузырями. И тут же жалею, что увидела эти дурацкие штаны, такие большие и такие бесформенные, что совершенно непонятно, где в них потерялась наша изящная мамика, как она ухитряется двигаться в этом мешке, куда можно засунуть дважды по две курицы. Живи она в Швейцарии, ей даже спать в таких штанах было бы стыдно, думала я тогда, и мысли эти казались мне злыми; злыми, но логичными.
Почему мне вспомнилось сейчас именно это? Я поднимаю голову, чтобы увидеть небо, серое и беспомощное, и отца, который держит меня под руку, уже не пытаясь спрятать от меня покрасневшие от слез глаза; мы медленно удаляемся от могилы мамики, двоюродные братья, двоюродные сестры, близкие и дальние родственники, дядя Пишта, последний из живых братьев мамики, дядя Мориц, обнявший за плечи младшего брата – моего отца; я так никогда и не сумею понять, это ли монотонное, почти беззвучное шествие нашей семьи, шествие связанных родственными узами людей, которые, потеряв одного из своих членов, самого любимого, ощущают лишь, что естественный ход вещей стал еще тяжелее, – словом, это ли шествие было повинно в том, что у меня вдруг вырвались рыдания, да с такой неожиданной силой, будто я в жизни не плакала; или скорее причиной была полоумная Юли, которая, держась за ржавые металлические прутья кладбищенских ворот, в отчаянном, страшном крике зовет мою бабушку: Kedves Panni néni, Panni néni, kedves Panni néni! (тетя Анна, милая тетя Анна! Мамика столько раз одергивала нас, чтобы мы не дразнили Юли, Господь Бог иной раз выбирает очень странные создания, чтобы через них обращаться к нам, говорила она), крики Юли прерываются таким кристально-чистым, звенящим стоном, словно мирозданию суждено теперь знать лишь один язык, язык безграничной боли, и я не могу унять рыданий, потому, может быть, что ноги Юли стынут от холода, голые грязные пальцы ее выглядывают из растоптанных, драных туфель, я бы все отдала, чтобы детские глаза Юли поглядели на меня и она попросила бы у меня конфетку, однако скорбные вопли ее переполняют чашу терпения, которое даже в такие моменты дает нам возможность жить дальше – ведь нельзя же, чтобы утрата близкого человека была для тебя непереносима, – и я, да, я не могу больше сдержать рыданий, потому что Юли безжалостно напоминает о том, что теперь, хочешь не хочешь, начинается моя жизнь без мамики.
* * *
Можно ли перепрыгнуть в новую жизнь за один день, за одну ночь? Я задаю себе сейчас этот вопрос, но в свое время это было просто какое-то смутное недоумение, которое невозможно выразить словами. Мы едем в Швейцарию, Svájcba[47], сказали вы нам, когда дядя Мориц однажды пришел к вам в кухню и, сев к столу, выложил на него бумаги, которые он привез из швейцарского посольства в Белграде. Все хорошо прошло? – спросили вы, да, ответил дядя Мориц; я и сегодня вижу перед собой грязновато-белый конверт, лежащий на кухонном столе, рядом с бутылкой палинки и стаканом, который дядя Мориц только что выпил залпом. Бумаги – это было нечто совершенно особое; шаткий кухонный стол, сине-белая эмалированная миска, жестяные кружки, на стене – коврик с цветными блестящими буквами благословения, буфет, в котором вы хранили все свои ценности, – все было знакомым, обычным, и теперь вдруг на столе появились бумаги, белые плотные листки, ничего особенного. В тот вечер (конверт уже лежал на столе), поев хлеба с сыром и задернув занавеску на окне, мы с Номи легли в постель рядом друг с другом, Господь Бог добродушно подмигнул нам, когда мы молились на ночь, а вы, мамика, теплой ладонью погладили нас по лицу; может быть, мы лежали без сна, все трое, а может, спали, не помню.