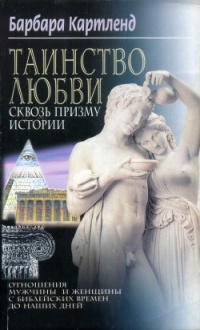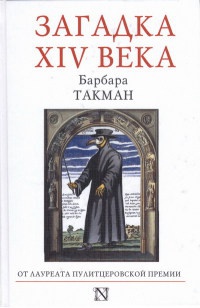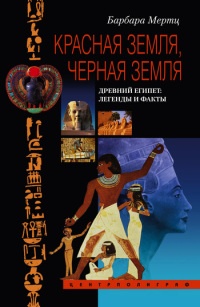Книга Ивановна, или Девица из Москвы - Барбара Хофланд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вскоре я поняла, что обманулась и что тот безмятежный вид, который он напустил на себя, был вынужденным, Шарльмон хотел избавить меня от переживаний на его счет. В его деликатном поведении было нечто такое, что не могло не заинтересовать меня. И я сдерживала себя, чтобы чувство благодарности, которое я на самом деле испытывала, не ввело его в заблуждение. Мне, несомненно, надлежало любыми способами охранять покой того, кто, проявляя настоящий героизм, старается вернуть меня к жизни. Постепенно скованность ушла, и мы, кажется, стали интуитивно понимать друг друга и уважать того, кого нам было запрещено любить.
Радуясь всякой возможности улучшить мое положение, Шарльмон теперь часто навещал меня, однако с чрезвычайной тщательностью избегал хотя бы малейшего проявления своей несчастной страсти. Никто и никогда еще не был более трогателен и интересен и не умел так вкрадываться в доверие. Обладая элегантными манерами, совершенным умом, обостренной чувствительностью и весьма обаятельной искренностью, он представлялся мне самым любезным из всех мужчин, а окружающим — самым благородным и самым образованным из всех французов. Потому что, как бы они им ни восхищались, они ни за что не могли полностью забыть его национальность. И ничего, кроме нашей абсолютной от него зависимости, не вынудило бы их принимать хлеб из его рук. Мы не покорились ему в буквальном смысле слова, так как я сохранила при себе несколько украшений, которые с большим убытком обменяла в лазарете, и на вырученные деньги Джозеф время от времени добывал немного грубой провизии. Малой толикой из даров Шарльмона кормились дедушка и Элизабет, и для спасения моих любимых больных я не могла отказаться от них. На самом деле, можно сказать, и ради него самого, поскольку, несомненно, такой отказ поверг бы Шарльмона в отчаяние, ведь, несмотря на его усилия скрывать свою страсть, ясно было, что он влюблен в меня.
Тем временем с каждым днем все больше французов уходило из Москвы, а ужасы зимы с каждым днем все прибавлялись. Шарльмон часто, следуя моим указаниям, приносил что-то полезное, сохранившееся в запасах нашего дворца, особенно постельные принадлежности, в чем была большая нужда. При этом он всегда настойчиво просил меня сопровождать его в этих походах и часто намекал на необходимость поиска предполагаемых тайников моего отца. Он даже настаивал, что это необходимо сделать ради меня, главным образом, по той причине, что скоро его рядом не будет и мне понадобится все, что сумею собрать, чтобы обеспечить нам самое скромное существование. В ответ на это я, как правило, отвечала: «Ныне в этом дворце не может быть ничего ценного для меня, кроме находящейся в комнате моей матери домашней аптечки, за ней я недавно посылала мальчика, которому рассказала, где ее искать, и ошибиться было невозможно, хотя я абсолютно уверена, что он не нашел ее потому, что аптечка всегда стояла в шкафчике, встроенном в стенную панель и плотно прикрытом задвигающейся дверцей, чтобы оставаться незаметным для глаз».
Мне очень хотелось заполучить эту аптечку, так как я была уверена, что в ней есть кое-какие средства, которые могли бы значительно облегчить страдания Элизабет. И я, разумеется, рада была бы сама разыскать ее, невзирая на жестокие страдания, которые мне неизбежно пришлось бы пережить, ведь именно в той комнате скончалась моя маменька. Но угроза последнему близкому мне человеку была столь велика, что в любую минуту жизнь его могла оборваться, а потому оставить его я не могла ни на секунду.
Я вспоминаю, что однажды, когда я повторяла свои указания Шарльмону, как отодвинуть дверцу потайного шкафчика, он уставился на меня таким пронзительным и пытливым взглядом, столь отличным от обычного, выражавшего чистую любовь и невыразимую печаль, что я весьма изумилась и встревожилась, и даже вся сжалась в тревожном предчувствии. Шарльмон тут же уловил, какую перемену во мне произвел его взгляд, и, ловко схватив мою руку, воскликнул: «Когда я смотрю на вас и вспоминаю все ваши ужасные страдания в той комнате, которые вы стараетесь так терпеливо донести до меня, то с трудом верю, хотя сам тому свидетель, что знатная женщина, такая молодая, такая красивая и столь хрупкая, действительно смогла выдержать подобные сцены. И я вглядываюсь в вас, ангел Ивановна, как в существо другого порядка, чуть ли не дрожа и трепеща при одном только виде своего кумира!»
Поскольку я время от времени замечала что-то подобное в выражении его лица, то пришла к выводу, что причиной тому все те же чувства. И, прекрасно зная по себе, что самые жуткие мысли в голове связаны со всем, что относится к моей печальной истории, я вновь обрела доверие к нему и продолжила свои указания, повторяя при этом, что мысль снова увидеть ту комнату настолько невыносима для меня, что чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что не смогу заставить себя войти туда.
«Вы несправедливы к себе, восхитительная женщина! — воскликнул Шарльмон. — В конце концов, вы страдали и всегда готовы страдать ради людей. Не могу представить себе, что вы не пойдете на такое испытание ради облегчения участи тех несчастных, жизнь которых зависит от вас. Я понимаю, как это тяжело, но можно ли сравнивать это с тем, что вы уже перенесли! Позвольте сказать вам, мадемуазель Ивановна, что величайшим доказательством почтения к памяти вашей матери являются внимание и забота об ее отце. И хотя я был бы безмерно счастлив возобновить неудавшиеся прежде поиски, позвольте все-таки сказать, что вы одержали бы победу над собой, решившись сопровождать меня».
Если бы моему несчастному дедушке действительно помогло то, что я могла найти там для него, я, несомненно, тотчас бы согласилась с уговорами, столь обоснованными и разумными. Но поскольку дедушке уже невозможно было помочь, я снова отказалась идти и стала умолять Шарльмона, если ему повезет, сразу же вернуться ко мне, что он и пообещал сделать. Но вернулся он только ночью, а за это время душа моего дорогого дедушки тихо и безболезненно отлетела в благословенные чертоги.
Едва ли ты поверишь, что, хотя я и должна была бы горевать по поводу, пусть давно ожидаемому и, по сути, конечно, желаемому, обстоятельства, в которых мы оба оказались, призывали меня скорее радоваться, нежели печалиться. Но, признавая уместность такого рассуждения, Ульрика моя, и испытывая определенное утешение от того, что свято исполнила обязанности, возложенные на меня родительскими пожеланиями и распоряжениями, я тем не менее не могла сдержать слез над дорогими для меня останками, ибо это было последнее, что у меня оставалось. Мы вместе страдали, и наше родство лишь укреплялось этим страданием. Могла бы добавить к этому, что зависимость нашего дорогого дедушки от меня, полная его беспомощность, и кроткая привязанность, и даже благодарность делали мои чувства к нему похожими на те, что мать испытывает к своему ребенку, и с потерей дедушки я утратила часть своего существа.
Пока я то оплакивала себя, то горевала, пришел Шарльмон, но некоторое время он оставался в другой комнате, чтобы не нарушить мое уединение, святое для чувствительного сердца. Никогда еще его дружба и чуткость не были столь заметны, как в тот ужасный момент. Было слишком очевидно, что он сочувствует мне, и нет смысла об этом говорить. Казалось, он вник в те тонкие движения души, которыми объяснялось мое настроение, и приписывал их самым благочестивым и добрым побуждениям. Таким образом он смягчал мои страдания, хотя казалось, что способствовал им. И вскоре я настолько пришла в себя, что начала настойчиво просить его помощи в погребении святых останков, лежавших пред нами.