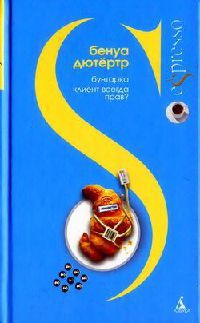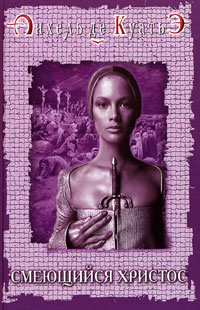Книга Родная речь - Йозеф Винклер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На сей раз я говорю то, что не дано было выразить твоей литературе. Если бы Якоб и Роберт не наложили на себя руки, ты, вероятно, гораздо позднее начал бы писать о своем детстве, если бы перерос свое юношеское безумие, только поэтому я бы хотел, чтобы они остались в живых. И хотя ты говоришь, что мог бы кончить так же, как Якоб и Роберт, это звучит, даже если так оно и есть, слишком литературно. Кто не может убеждать правдой, не умеет и убедительно лгать, так, кажется, у Монтеня. При всех обстоятельствах ты стремишься отринуть этот мир, не задумываясь о том, что мир сильнее тебя, и скорее уж тебе быть отверженным. Возьми веревку Якоба и Роберта, которую в желтом целлофановом пакете прячешь у себя в тумбочке, удлини ее бельевой веревкой с балкона, где развешано твое кружевное исподнее. «Кончать с ним! Кончать!» — говорили мы, глядя на безнадежно больное животное в хлеву, вот и кончай себя. Бумеранг должен вернуться. Он целится тебе в лоб, либо он расколет твой череп, либо сам разлетится на куски, там видно будет. Иногда я думаю, что ты уже достаточно наказан, по ночам ты торчишь под развесистым деревом и, молитвенно сложив ладони, канючишь, упрашивая какого-нибудь уличного сорванца подарить тебе любовь, даровать ненависть. Ты все время должен разглядывать посмертные маски, чтобы иметь силы жить. В Берлине ты первым делом направился к гипсовым маскам убитого Марата и Фридриха Хеббеля. Лицо Марата искажено криком ужаса. А глядя на улыбающуюся маску Хеббеля, ты воображаешь себе, какими красивыми могли бы быть похороны Якоба. Настоящее траурное торжество, его бы следовало похоронить со всей пышностью, под музыку битлов. Ты интересуешься методами бальзамирования и погребальными ритуалами примитивных народов. Самоубийц нынче хоронят кое-как, на скорую руку. Священник, естественно, не имел возможности распространяться о долгой и полной трудов жизни, о заслуженном праве на вознесение семнадцатилетнего подмастерья, который, в сущности, только начинал жить. Ты помнишь, я сказал тебе: «Про меня можешь писать все что хочешь, если тебе от этого легче, а этих парней не трогай, не тревожь покойников», — но они то и дело оживают в твоих книгах, ты постоянно эксгумируешь их. Недавно ты купил себе седого африканского попугая, который, по словам деловитого зооторговца, лучше обучается человеческому языку, чем амазонский. В связи с этим ты размышляешь о своем безъязыком детстве. Сейчас, когда ты работаешь над словом за письменным столом, попугай сидит напротив и смотрит на тебя. А ты, поднимая голову, смотришь ему в глаза. Меня радует, что ты завел попугая, я воспринимаю это как шаг навстречу твоему отцу. Не могу себе представить, как можно жить без живности. Ты ведь тоже вырос среди животных и, наверное, не можешь жить без них. Что было у тебя на уме, когда ты назвал своего питомца Нелюдь! Ты все еще не избавился от путаных детских фантазий. Сегодня ты опутал и укутал себя коконом. Твое обиталище, должно быть, смахивает на комнату ужасов. Кругом — гипсовые маски, мертвые лица Эльзы Ласкер-Шюлер, Марата и Фридриха Хеббеля, которые печным углем скопировал художник Георг Рудеш. Ты лопатой, которой убирают снег, выгреб из кафельной печки груду раскаленных углей, а потом художник разложил остывшие уголья на столе.
В том, что Шекспир создавал образы убийц, было его спасение, тем самым он избавил себя от необходимости быть убийцей, — утверждает Фридрих Хеббель. Нет таких преступлений, сколь бы тяжкими они ни были, на которые я порой не чувствовал бы себя способным, — признается Гёте. Жан Жене, отвечая на вопрос Хуберта Фихте, говорит, что стал бы убийцей, если бы не писал. Когда убили Джона Леннона, австрийские СМИ откликнулись на это злодеяние воплями ужаса и возмущения. Меня тогда удивило, что и австрийские поп-музыканты, дававшие интервью, подняли такой жалобный вой. Никто не оказался способным внятно выразить два чувства одновременно — ужаса и затаенной радости. Девятнадцатилетняя участница Сопротивления, осужденная судом в чешской Подгорице и расстрелянная в апреле 1944 года, из камеры смертников отправила своему отцу последнее письмо, где были такие строки: «Держись, отец, не отчаивайся, иначе ты только доставишь удовольствие врагам, которые убьют меня такой молодой. Не принимай ничьих соболезнований. Многие пожелают посочувствовать твоему горю, но на самом деле им будет приятно видеть, как ты страдаешь». Почему новеллы Эдгара Аллана По так притягивали паренька из деревни? Ведь он мог бы заново познать свою душу в каком-нибудь красивом романе из жизни крестьян Саксонской Швейцарии или в телевизионных сериалах про Фьюри и Лесси. У меня большое искушение сказать, что твое преодоление языка — не столько литературный феномен, сколько довольно невинная форма насилия. Я не умер от того, что ты написал обо мне. Надеюсь, и ты не умрешь от того, что напишут про тебя. Твоим наставником может стать лишь собственное творчество. Следуй указаниям своего языка и никого не слушай. Составь себе своего рода свидетельство о смерти, найдется много охотников, даже среди твоих так называемых друзей, подписать его. Распечатай его в виде листовок и разбросай повсюду. Когда в деревне появлялся чужак, я, сидя на подоконнике, тут же составлял себе мнение о нем. Всякого чужака окружает аура жутковатой инородности. Когда вы со школьным учителем отправились на первую экскурсию в столицу Каринтии и, поднимаясь по Вокзальной улице Клагенфурта, начали здороваться с каждым встречным, учитель одернул вас, сказав, что в городе не нужно приветствовать незнакомых людей. А ты не мог себе представить, как можно пройти мимо человека и не обратить на него внимания.
В груди у тетки художника — электрокардиостимулятор, она на несколько лет старше тебя, а ты еще тянешь лямку молодого крестьянина. Моим кардиостимулятором был Гитлер. Вот уже тридцать лет мой кардиостимулятор — работа в крестьянской усадьбе. Поскольку у тебя был авторитарный отец, ты, как это ни парадоксально, не допускал мысли о том, что тебе на жизненном пути придется быть в подчинении у еще какого-то авторитета — армейского, который ты отвергал, или авторитета ректора, добровольно ушедшего на фронт. «Я никогда не был трусливым псом!» Ты до сих пор слышишь, как несколько лет назад он произнес эти слова. Когда в бою убили моего лучшего товарища, я, склонившись над его телом, кричал: «Свиньи вы, мерзкие свиньи! Гитлер, будь ты проклят, грязная скотина!» Я целовал раны боевого товарища и смотрел в глаза своим испуганным однополчанам. Должно быть, я был похож на вампира, когда поднимал голову с кровью убитого на губах и озирал безумным взглядом поле боя. Я схватил покойника за воротник и поволок в окоп. На снегу оставались кровавые борозды. Временами я проклинал Гитлера. И не выставляй меня в ложном свете, а то сам ничего не разглядишь. Самолеты буйствовали в небе, танки буйствовали на земле, флаги со свастикой бешено бились на ветру, пулеметы, как припадочные, бились в конвульсиях. Не буду отрицать пайку радости, которую выдавала нам война, но не хочу замалчивать и ее ужасы. Мы тащились по снегу во славу отчизны, горланя нацистскую песню, оставив в снегах своего товарища, а я шел все дальше и дальше по снежным равнинам, как по цветущим лугам, пока не дошел до дома. Я никогда не сдавался, хотя порой был близок к этому, и на войне, и в крестьянских трудах и хлопотах. Помните, как я однажды в недобрый час крикнул: «Вот возьму веревку и пойду в сенной сарай!» Я уж и не знаю, в какой связи, но эти слова иногда вертятся у меня на языке. Зная свои слабости, я пытаюсь показать лишь сильные свои стороны. Ведь вам нужен отец, который умеет противостоять всему: Богу, предрассудку, врагам из числа деревенских. «Какая безвкусица», — сказал священник, глядя на огромное надгробие отца. Я заметил ему, что в церкви у главного и боковых алтарей в глазах рябит от безвкусных сусальных ангелочков. «Какая безвкусица!» — восклицаю я во время причастия, прежде чем священник сунет мне в рот тело Христово. Некоторые прихожане, которые превосходят меня в умении лезть к священнику без мыла, говорят ему, что я злой человек, они наловчились вовремя приплетать молитву в подтверждение чистоты своей совести. Михель однажды собрался податься в Южную Африку, чем дальше от деревни, тем лучше; иные отправились на тот свет, чем дальше от деревни, тем лучше; Марта когда-то порывалась уйти в монастырь. Вальтрауд Штоксрайтер призналась, что не стала бы столь религиозной натурой, если бы не была воспитана в этой деревне, теперь она навещает заключенных, а в ту пору подарила мне «Рабский караван» Карла Мая. У нее в комнате ты впервые услышал Девятую и Пятую симфонии Людвига ван Бетховена, сколько часов и дней ты просидел в этой комнате, не желая уходить, ты готов был спать здесь прямо на полу, подостлав под себя овчинку, если бы позволила хозяйка. Она жила у Айххольцера, а тебе так хотелось, чтобы она жила у вас, в доме твоих родителей. В мечтах ты часто воображал, что она, учительница, живет в комнате Пины, которая вернулась в дом Айххольцера, откуда пришла к вам еще почти девочкой. Ты усаживался под книжной полкой и слушал и слушал Бартока, Чайковского и Моцарта, а с полки брал книги Вольфганга Борхерта, Камю, Сент-Экзюпери, Хемингуэя и прежде всего — Эдгара По. В этом уголке крестьянского дома ты открыл для себя музыку и литературу. У тебя было достаточно возможностей убежать от меня, от родительского дома, от жестоких односельчан, от их схваток между собой и от их борьбы с землей. Когда тебе было семнадцать, ты каждую субботу ездил в Шпитталь, к художнику Георгу Рудешу, который приобщал тебя к изобразительному искусству. По репродукциям ты познакомился с картинами Пикассо, Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Карла Хофера, Уильяма Тернера, там ты впервые увидел образы, созданные Модильяни и Иеронимом Босхом. Художник Рудеш открыл тебе двери в историю искусства, как пятью годами раньше Вальтрауд приохотила тебя к большой литературе. В то время как другие крестьянские ребята горбатились в хлеву, ты склонялся над созданиями Босха. Тому, кто любит язык больше, чем людей, уже ничто не угрожает, кроме ада… Меня терзало безмерное отчаяние при попытках действительно овладеть языком. Уж лучше томиться в тюрьме, чем пребывать в душевном комфорте дома, ибо, если я чувствую себя вполне комфортно, у меня пропадает желание писать. И так же, как в детстве мне приходилось бороться с немотой, так теперь я борюсь с языком. Я должен заново сотворить себя посредством языка. Когда нет сил писать, я сижу в темном углу комнаты возле своих посмертных масок, и у меня одно желание — убить себя, я ненавижу все и всех, даже того человека, которого люблю, и надеюсь, что он сам покончит с собой, но вместе с тем я боюсь за него, внушаю себе, что не могу его любить, потому что утратил дар языка и ненавижу всех и вся, а больше всего — самого себя. И хотя я знаю, что смерть победит, у меня хватает мужества всю жизнь бороться с ней. Это — безнадежная, а стало быть, великая борьба. По утрам я начинаю борьбу с языком в надежде, что вечером последний удар по клавише сделает меня победителем, но всякий раз я покидаю клавишное поле боя побежденным. Увлеченность смертью поддерживает во мне жизнь, но моя воля к жизни так сильна, что сам я влюблен в тех, кто высмеивает меня из-за моей постоянной сосредоточенности на смерти. Коль скоро языку удастся разложить меня на буквы и обрывки слов, я хочу, чтобы никто больше про меня не спрашивал. Моими злейшими врагами стали уже мои собственные фразы. Я вычеркиваю и подчеркиваю их. Я глушу их и выпячиваю. Моление Толстой считал самым обыкновенным безумием. Писание — тоже самое обыкновенное безумие. Ведь тебе надо заправить авторучку не красными чернилами, а человеческой кровью, если ты кровью хочешь вывести: «Отрицательный Йезус-фактор».