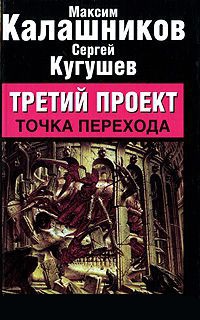Книга Третий проект. Погружение - Сергей Кугушев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не меньшее омерзение вызывают и внутренние сцены крепостнической жизни с помещиками-мотами, с бешенством «от жира», с пустой и никчемной жизнью большинства правящего класса. То, что делала и делает нынешняя россиянская псевдоэлита, и есть лишь концентрированное повторение строя мысли, образа жизни и поступков их предшественников в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Дворяне спускали миллионы рублей в Европе – и их нынешние наследники делают то же самое, скупая архидорогую лондонскую недвижимость и футбольные клубы. Преемственность в самом чистом виде! Именно поэтому владельцы вилл на Рублево-Успенском шоссе, отгороженных от остальной России, складывают песни про вальсы Шуберта, закаты и хруст французской булки – как упоительны в России вечера.
Дорогая булка у вас получилась, ребята! Крепостничество и бесправие – ей цена. И несчастье нашей истории. И исковерканная русская судьба. И многие миллионы жертв. Вот что пошло в уплату за все эти великолепные псовые охоты, клавесинные вечера и балы белыми ночами в Северной Пальмире.
Народ в старой России – это прежде всего крестьянство. Даже в середине девятнадцатого века в городах проживало не более 5 процентов населения. Крестьянство жило своей жизнью, невообразимо далекой от Петербурга и проекта «Северная Пальмира». И уж тем более – от Европы. Жизнь крестьянина была самодостаточной. Ее содержание складывалось из борьбы с суровой природой и уклонения от власти – сил, одинаково для крестьянина далеких, непонятных и, в общем-то, враждебных. С городом, и уж тем более с далекой непостижимой столицей на Неве (а уж тем более – и с вовсе неведомой заграницей) русского землероба связывала лишь часть урожая и продуктов, отдаваемая либо помещику, либо его управителю. В остальном крестьянин, его семья и община были замкнуты на самих себя и привычный ход вещей. В его основе – труд от зари до зари без выходных с весны до осени и множество праздников во вьюжные зимние вечера, в осеннюю и зимнюю распутицу. Именно на каторжном труде крестьянина и было построено все в Северной Пальмире.
Но при этом скажем прямо: русский крестьянин все же не умирал с голоду. По свидетельствам иностранцев, посетивших внутренние районы Российской империи в восемнадцатом и начале девятнадцатого века, русский крестьянин жил как минимум не хуже деревенских жителей в Западной Европе. Так, английский путешественник Роберт Бремер специально поехал вглубь России в начале XIX, стараясь отыскать в жизни нашей страны позорящие ее черты. И, тем не менее, он написал:
«В целом … по крайней мере, в том, что касается пищи и жилья, русскому крестьянину не так плохо, как беднейшим среди нас. Он может быть груб и темен, подвергаться дурному обращению со стороны вышестоящих, несдержан в своих привычках и грязен телом, однако он никогда не знает нищеты, в которой прозябает ирландский крестьянин. Быть может, пища его груба, но она изобильна. Быть может, хижина его и бесхитростна, но она суха и тепла. Мы склонны воображать себе, что если уж наши крестьяне нищенствуют, то мы можем по крайней мере тешить себя уверенностью, что они живут во много большем довольстве, чем крестьяне в чужих землях. Но сие есть грубейшее заблуждение. Не только в Ирландии, но и в тех частях Великобритании, которые считаются избавленными от ирландской нищеты, мы были свидетелями убогости, по сравнению с которой условия русского мужика есть роскошь, живет ли он среди городской скученности или в сквернейших деревушках… Есть области Шотландии, где народ ютится в домах, которые русские крестьянин сочтет негодными для своей скотины…» (Цитируем по книге Р.Пайпса «Россия при старом режиме» – Москва, 2004 г.)
Когда читаешь это, невольно задумываешься. Откуда у русских крестьян оставался какой-никакой достаток? Ведь урожайность на гектар в России в те времена была в четыре-пять раз меньше европейских! Ответ до смешного прост: нигде в Европе на одного землевладельца не приходилось таких площадей земли, как в России, и стольких зависимых от него крестьян. Тем паче, что в тогдашней России крестьян жило больше, чем во всей Европе, вместе взятой. Таким образом, уступая в качестве, мы брали количеством. Отставая в эффективности, брали массой.
И все же главной проблемой русских крестьян были не материальные, а общественные и духовные условия их жизни. В отличие от европейского, русский крестьянин был крепостным по сути, беззащитным перед произволом власти и помещика. Тот же Роберт Бремер писал:
«Пусть, однако, не думают, что раз мы признаем жизнь русского крестьянина во многих отношениях более сносной, чем у некоторых из наших собственных крестьян, мы посему считаем его долю в целом более завидной, чем удел крестьянина в свободной стране вроде нашей. Дистанция между ними огромна, неизмерима, однако выражена может быть двумя словами: у английского крестьянина есть права, а у русского – нет никаких!» (Р.Пайпс, указ. соч., с 212).
Итак, русский крестьянин был бесправен и беззащитен перед властью. И одновременно его лишили живой веры, придающей смысл существованию. О какой искренней, одухотворяющей вере можно вести речь, если, начиная с 1700 года, упраздняется патриаршество и церковь превращается в часть государственной машины, в идеологическую организацию по воспитанию трудящихся – темного и неграмотного народа?
Со времен Петра Первого наша официальная церковь была чем угодно, только не домом Бога. Мало того, что великий европеизатор отменил патриаршество, он еще и свел управление церковью к бюрократическому органу, священному Синоду – элементу государственного аппарата Российской империи. Этот факт, мы думаем, хорошо известен тебе, читатель. А теперь поведаем о вещах уж совсем удивительных. Начиная с Петра Первого рукоположенные священники давали присягу государству, в которой торжественно клялись «Его Царского Величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и прерогативы узаконенные и впредь узаканиваемые, по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять и в том живота своего в потребном случае не щадить». То есть, священники превращались в цепных псов государственной машины. С высшим духовенством дело обстояло еще круче. В присяге, приносимой членами священного Синода, содержалось вот что: «Клянусь же Богом живым Ея Величеству, Государыне Царице Екатерине Алексеевне верным, добрым и послушным рабом и подданным быть» («Полное собрание законов Российской империи с 1649 года» – СПб, 1830 г., т. 6, с. 315).
Священник, как послушный раб императрицы, как слуга власти, ненавидимой обществом! Прямее и не скажешь. Стоит ли удивляться тому, как в начале ХХ века русские мужики охотно валили кресты с официальных церквей? Впрочем, не надо впадать и в другую крайность и считать русских стихийными атеистами. Нет, не были мы таковыми. Скорее, русские крестьяне хранили своеобычную и в чем-то детскую веру в доброго, усталого Бога, от которого скрывают безобразия, творящиеся не земле. Верили они и в помазанника этого доброго Бога – русского царя, единственного, кто думает о народе и сочувствует ему. Бесспорно, такая вера носила прежде всего психотерапевтический, а не творческий характер. Нацеливала человека не на созидание, а на обживание. Но она была необходима. Не может человек жить без веры, так же, как и без надежды и любви.