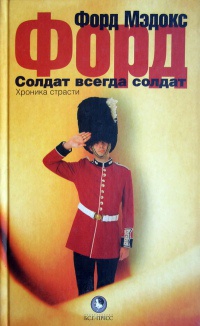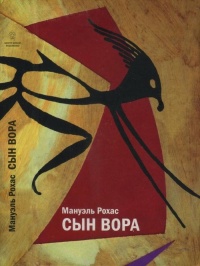Книга Солдат, сын солдата. Часы командарма - Эммануил Абрамович Фейгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А вы сами пробовали? Нет? То-то же!
А Николай все пробует, и, хоть реви, ничего не получается. То глубина борозды не та, то какой-то кривулькой она выходит, а то и вовсе не берет лемех, а только скользит и скользит по поверхности. Николай рвет в клочья исчерканный, перечерканный лист, и снова перед ним нетронутая белизна бумаги... Тебя охватывает отчаяние. Тебе хочется бросить все, уйти... Но ты уже никуда не уйдешь. Ты сам нерасторжимо, на всю жизнь приковал себя к этому плугу. Вот и тяни! Тяни! Сколько раз, изнемогая, ты будешь спотыкаться в борозде. И не раз ты упадешь грудью на пахоту, и твоим уставшим глазам белое будет казаться черным. Но ты все равно встанешь, протрешь глаза и снова поведешь борозду, потому что нет тебе без этого жизни.
Но вот ты ценой тяжкого труда вспахал и засеял для начала маленький участок, потому что на большее ты еще не рискнул замахнуться. С трепетом, с тревогой ты ждешь всходов, а их все нет и нет. И не будет. В страданиях познаешь ты еще одну истину: ничто не вырастет на этом поле, пока ты не оросишь его кровью своего сердца.
...Люди называют это муками творчества.
Когда говорят о муках творчества применительно к писателю, обычно это представляют себе так: все есть у писателя — и образы, и мысли, и только лишь слова пока нет, того единственного, верного слова, которым все это можно выразить. Но, черт побери, все знают, как трудно найти его, это слово. Оно увертливо, как ящерица... Вот только что ты держал его в руках — и нет его... Выскользнуло, оставив между пальцами твоими тоненький трепещущий хвостик, а самого и след уже простыл. А бывает, оно лежит на таких подземных глубинах, то единственное, самое точное и нужное слово, что до него, кажется, и вовек не доберешься.
Так или иначе, оно всегда труднодоступно, и никогда не найдешь его на поверхности. Вот и измучаешься, пока доберешься до этого бесценного, редкого сокровища...
Потому и говорят люди: муки творчества. А это правда и неправда. Во всяком случае, не вся правда.
Ты ищешь верное слово, чтобы нарисовать человека, и, конечно, нелегко найти для этого нужное слово, но понять самого человека, постичь его душу — в сто раз труднее.
Тут-то и начинаются настоящие муки.
О Сергее Бражникове, которого Николай после долгих раздумий избрал героем своего очерка и без которого не мыслит уже своей будущей книги, он знает как будто немало. О разведчике Федосееве в тетради десять страниц записей, а о Сергее — с полсотни. Во всяком случае, раньше из этого материала Николай мог бы сделать не один, а два очерка. Легко и просто: расположил бы в одну линию, на одной плоскости все известное ему о Бражникове. Где родился человек, где учился, где и кем работал, что говорят о нем начальники и сослуживцы и что он сам сказал на последнем комсомольском собрании. Вот и слепился бы так называемый газетный очерк. Ну, конечно, не обойтись в таком произведении без словесных завитушек и побрякушек: Особенно в начале и в конце. И заголовок нужно придумать более или менее привлекательный. Словом, Николаю уже известен этот в общем несложный рецепт. Но сейчас ему хочется писать по-другому. Совсем по-другому. Поэтому и не получается на бумаге ставший вдруг непостижимым Сергей Бражников. Никак не получается.
2
— И не получится. Я же говорил тебе...
Сурен Мартиросович Айрумян вовсе не злорадствует, когда говорит это Макарову. Он по натуре своей человек благожелательный и поэтому искренне жалеет сейчас Николая: «Ну зачем он мучается, зачем надрывается? И скажите, пожалуйста, для чего нужно ставить перед собой такую непосильную задачу? Неужели мальчику не ясно, что он не Шекспир, не Чехов и даже еще не Айрумян.
Эх, молодость, молодость! Было время, и Сурен Мартиросович тоже стремился к звездам небесным, пока не понял... Ну сам не понял — жизнь заставила понять. А ведь подавал надежды. И немалые. О нем уже, бывало, говорили: «Известный журналист Айрумян». И ему иногда перепадал лакомый кусочек от пирога славы. И если бы не превратности журналистской судьбы... Что-то он сам напутал, что-то напутали с ним — и все...»
Послушать Сурена Мартиросовича, так он даже рад, что так сложилась его судьба. Во всяком случае, он навеки избавлен от проклятой журналистской суеты. Как человек, переболевший в молодости многими литературными болезнями и, следовательно, обладающий опытом, он охотно, не щадя при этом своего самолюбия, поучает молодежь.
— Вступая на тернистый путь журналистики, — говорит он, — юнцы должны помнить, что газетная слава, как и сама газета, — однодневка. Вчерашняя газетная знаменитость имеет такую же ценность, как прошлогодний снег. Сегодня ты сверкаешь на газетном листе всеми красками — ну, павлин, и только. А назавтра уже лежишь в мусорном ящике, как вылинявшая тряпка. Поверьте мне, дети мои, это правда. Я сам в свое время так полинял. Когда-то я был Ай-Румян. А сейчас, как видите, Ай-Бледен.
Сурен Мартиросович сам весело смеется этой шутке. У него и сейчас юношеский румянец на заботливо выбритых щеках. «А почему? Потому, что веду нормальный образ жизни, недоступный никакому бродяге-журналисту. Вот так, дети мои!»
Сурен Мартиросович очень гордится и дорожит своим нормальным образом жизни. Года три тому назад ему по старой памяти предложили стать разъездным корреспондентом большой столичной газеты. Сурен Мартиросович решительно отказался: «Поездки по стране? Новые места и новые люди? А зачем мне это? Я сорок раз обойду пешком земной шар, но только обещайте, что будет дана мне в награду способность написать хотя бы одну строку с пушкинской силой. Понимаете? Хотя бы одну строку написать, как Пушкин писал! Невозможно, говорите? Так зачем мне новые места, новые люди, новые впечатления? Что я с этим делать буду?»
Нет, ничего этого ему не нужно. Он предпочитает стоять на якоре в тихой и спокойной гавани, какой кажется ему секретариат военной газеты. Конечно, литературный правщик — должность небольшая. И для журналиста в пятьдесят четыре года с таким стажем и опытом должно быть немного обидно. Но он не обижается. А что еще нужно скромному человеку?
Словом, для журналистики это был человек уже конченый. Но некоторый вкус и, если так можно выразиться, нюх у него еще