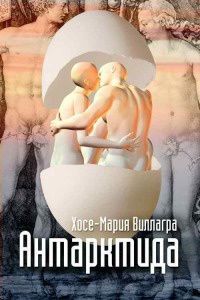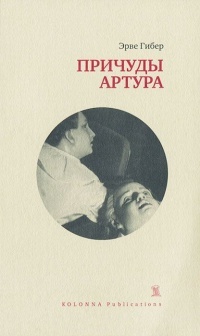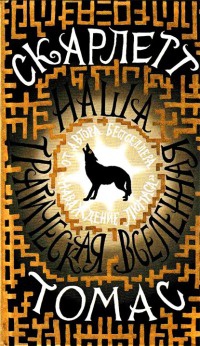Книга Годы - Анни Эрно
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она не думает постоянно о собственных детях, как не думала о родителях, когда была девочкой или подростком, — они часть ее. Перестав быть супругой, она стала иной матерью, это скорее гибрид сестры, подруги, вожатой, организатора повседневной жизни, упростившейся после развода: каждый ест когда хочет, держа поднос на коленях и сидя перед телевизором. Часто она с удивлением смотрит на них. Значит, ожидание, когда они вырастут, кашки, первый раз в первый класс, потом средняя школа — и в результате получаются вот эти высокие парни, про которых она, видимо, мало что знает. Без них она не могла бы сориентироваться во времени. Когда она видит малышей, играющих в песочнице в сквере, ей странно думать, что детство ее детей уже стало воспоминанием и ощущается так далеко.
Важные моменты ее теперешнего существования — это встречи с любовником, днем, в номере отеля на улице Даниэль-Казанова, и походы к матери, которая находится в больнице в долгосрочном стационаре. И то и другое настолько связано, что иногда кажется, что речь идет об одном человеке. Словно коснуться ничего не помнящей матери, погладить ее по щеке или волосам — жесты той же природы, что и эротические ласки любовника. После секса она дремлет, вжавшись в его крупное тело, а за окном смутно шуршат машины, напоминая о других разах, когда она вот так же лежала днем на кровати: воскресными днями в Ивето, когда она девочкой читала, приткнувшись к материнской спине; или будучи няней в Англии, кутаясь в одеяло возле электрообогревателя; или в отеле «Мэзоннав» в Памплоне. Каждый раз нужно было выныривать из сладкого оцепенения, вставать, делать уроки, идти на улицу, работать, существовать в социуме. В такие минуты она думает, что ее жизнь можно изобразить в виде двух пересекающихся осей, одна — горизонтальная со всем, что с ней происходило, что она видела, слышала в каждый момент жизни, а другая вертикальная, на ней всего только пара картинок из цепочки, ныряющей в темноту.
Во вновь обретенном одиночестве она находит мысли и ощущения, которые заслоняет жизнь вдвоем, и ей приходит идея написать «что-то вроде истории женской судьбы», с 1940-го до 1985 года, типа «Жизни» Мопассана, чтобы отразить ход времени в себе и вне себя, в Большой истории, — некий «тотальный роман», который закончился бы освобождением от людей и вещей, родителей, мужа; дети уходят из дома, мебель распродается. Ей страшно запутаться в массе предметов реального мира, который непременно надо ухватить. И как организовать накопленную память о событиях, происшествиях, о тысячах дней, которые привели ее ко дню сегодняшнему.
Сейчас, так далеко от 8 мая 1981 года[70], в памяти осталась только картина пустынной улицы, немолодой женщины, неспешно выгуливающей собаку, а ровно через две минуты по всем телеканалам и радиостанциям объявят имя нового президента Республики, и появится лицо Рокара, выскакивающего на экран как чертик: «Все на Бастилию!»
И из недавнего прошлого:
смерть Мишеля Фуко, по версии газеты «Монд», от заражения крови, в конце июня, после или до громадной демонстрации сторонников частных школ, с бесчисленными юбочками-плиссе и белыми блузками
смерть Роми Шнайдер двумя годами раньше, такой прекрасной в фильме «Мелочи жизни», когда-то впервые увиденной урывками в «Молодых годах королевы» — экран заслоняла голова парня, с которым они целовались в кинотеатре на последнем ряду, — ряд традиционно и предназначался для этих целей
водители грузовиков, перекрывшие улицы накануне февральских каникул
металлурги, которые у нее ассоциировались с рабочими заводов Lip, — жгущие покрышки на дорогах
и она читает «Слова и вещи»[71] в купе остановившегося скоростного поезда.
Чувствовалось, что помешать возврату правых сил не сможет ничто. Фатализм социологических опросов сбудется, и эта незнакомая ситуация, «сосуществование правого премьер-министра и левого президента», почти сожительство, неотвратимо станет реальностью, как тайный грех, который охотно распаляли СМИ. Общественно полезные работы для молодежи, элегантный Фабиус, которого по телевизору Ширак растер в порошок, Ярузельский в черных бандитских очках на приеме в Елисейском дворце, саботаж Rainbow Warrior[72] — правительство левых сил, казалось, во всех обстоятельствах действовало невпопад. Даже захват заложников в Ливане, в ходе конфликта, в котором никто ничего не понимал, случился некстати, и ежевечерний призыв не забывать, что Жан-Поль Кофман, Марсель Картон и Марсель Фонтен по-прежнему остаются в плену, раздражал: ну что мы можем поделать. В зависимости от своего политического лагеря люди злились агрессивно или удрученно. Даже зимы, более холодные, чем обычно, со снегом в Париже и температурой минус двадцать пять в Ньевре, не предвещали ничего хорошего. Вокруг нас люди негласно умирали от СПИДа — чудом уцелевшие жили вполсилы. Царила подавленность. По вечерам, слушая Пьера Депрожа, заканчивавшего свою «Хронику обычной ненависти» словами «а что касается марта, то независимо от политической подоплеки он вряд ли протянет дольше зимы», мы понимали, что это левые не переживут зиму.
И правые возвращались, методично разрушали все сделанное, приватизировали национализированные предприятия, отменяли административную защиту работника при увольнении, налог на крупные состояния. Это мало кого осчастливило. Мы снова любили Миттерана.
Умирали Симона де Бовуар и Жан Жене, вот уж точно, апрель не задался, да к тому же над Иль-де-Франсом по-прежнему шел снег. И май тоже, — хотя атомная электростанция, которая взорвалась в СССР, не слишком нас напугала. Катастрофа, которую русские не сумели скрыть и которая, видимо, объяснялась, как и ГУЛАГ, имперской сутью и (при всей нашей симпатии к Горбачеву) бесчеловечностью, не имела к нам отношения. Однажды душным июньским днем, выйдя с дипломного экзамена, лицеисты узнали, что незадолго до этого на пустынной дороге разбился на своем мотоцикле Колюш.
Войны в мире шли своим чередом. Интерес, который мы к ним испытывали, был обратно пропорционален их длительности и удаленности, и зависел в основном от присутствия или отсутствия среди их участников европейцев. Неизвестно, сколько времени убивали друг друга иранцы и иракцы, а русские пытались усмирить афганцев. Еще непонятней были мотивы, в глубине души мы думали, что и сами участники их не знают, и подписывали без всякой веры петиции по поводу конфликтов, чьи причины не удерживались в голове. Путались в группировках, воюющих в Ливане, шиитах и суннитах, и еще христианах. Что люди истребляют друг друга из-за религии, не укладывалось у нас в голове, значит, эти народности еще находятся на низкой стадии развития. Мы-то с идеей войны покончили. На улице почти не встречались парни в военной форме, и армейская служба стала повинностью, от которой все, кто мог, уклонялись. Антимилитаризм утратил актуальность, песня «Дезертир» Бориса Виана отсылала к далекому прошлому. По нам, так хорошо было бы расставить «синие каски»[73] повсюду, чтобы настал вечный мир. Мы были приличными и цивилизованными, все больше заботились о гигиене и уходе за телом, пользовались средствами для устранения запахов на теле и в доме. Мы смеялись: «Бог умер, Маркс тоже, да и я не в лучшей форме». Играли словами.