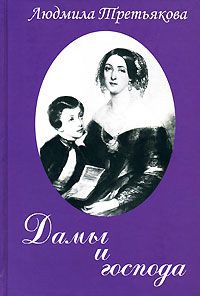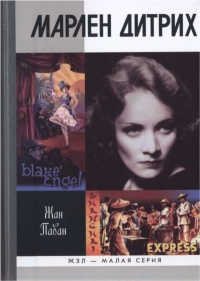Книга Незакрытых дел – нет - Андраш Форгач
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За неделю до взятия Будайской крепости, 5 февраля 1945 года, в соседний с казармой лейб-гвардии дом врезался немецкий военный планер. Хвост и корпус самолета еще долго картинно торчали из разрушенного здания на диво окрестным жителям. Первое, с чем столкнулись под проломленной крышей квартиры, выходящей на бульвар Аттилы, те, кто осмелился вылезти из подвала во время осады, была отрезанная голова молодого летчика-немца – она выкатилась на паркет им под ноги, как только они взломали топором дверь кабины. Рука летчика все еще сжимала ручку управления катапультируемого кресла. Впрочем, ужас, который испытали жители дома, быстро сменился радостью: в тесном багажном отделении транспортного планера DFS-230, в опечатанных мешках они обнаружили несколько центнеров картошки, которую этот летательный аппарат, рассчитанный на транспортировку девяти человек, должен был доставить немецким и венгерским частям, защищавшим крепость. Как и другие такие же планеры, он вылетел из Вены и собирался приземлиться неподалеку отсюда на Вермезё, Кровавом поле.
«Е» – холод ледников, далеких и прекрасных,
Палатка, облачко в просторе отдаленном.
«И» светится во тьме железом раскаленным,
То – пурпур, кровь и смех губ дерзких, ярко-красных[72].
До этого девушка читала вслух Мицкевича, чтобы доказать, что нет на свете языка прекраснее, чем польский, а молодому человеку в тот момент пришли в голову только эти строчки из Рембо. Пока он их декламировал, кто-то выглянул из окна и скинул ключ, который ему каким-то чудом удалось поймать.
* * *
Гораздо раньше один из гостей, отличавшийся некоторой скрытностью в поведении, – молодой мужчина с ироничной улыбкой и тонкими чертами лица, у которого в прошлом были мимолетные приключения с обеими сестрами и который, соответственно, приходил сюда, еще когда тут жили родители вместе со своими собственными родителями (те горячо спорили и между собой, и с супругами Папаи), давал братьям сочинения Мао Цзэдуна, соблазнял сестер и как к себе домой взбегал по винтовой лестнице, – этот гость, заметив хмурого поэта, который дисциплинированно отхлебывал из своего стакана и прикуривал одну сигарету от другой (а у ног его сидела поклонница с апельсином в руке – редким по тем временам лакомством), легким кивком головы позвал его выйти в комнату сестер – она находилась за ванной, и вид из окна там перекрывал росший перед домом большой каштан. В 1956 году это окно пробила срикошетившая от крепостной стены шрапнель – в тот самый момент, когда, забежав на пару минут из подвала в квартиру, жадный до новостей Папаи наклонился, чтобы выключить радио. Поэт тяжело поднялся, прихватил с собой бутылку водки, зажженную сигарету, пепельницу и рюмку и, держа все это в одной руке, что само по себе могло претендовать на серьезный цирковой трюк, указательным пальцем другой руки дал знак своей готовой вскочить поклоннице, что идти за ним не надо. К их величайшему удивлению, в комнате сестер на незастеленной кровати, где на месте подушки лежал бюстгальтер, под картиной Босха, изображающей поносящие Христа ехидные рожи, и вышитым толстыми хлопковыми нитками автопортретом Ван Гога (неподражаемое, сияющее, как солнце, произведение упомянутой выше сестры с волосами цвета бронзы) сидел курчавый мужчина с бледным мраморным лицом – кинорежиссер; казалось, он сидит там уже целые столетия – с мускулами штангиста и невозмутимостью Будды; играя с опутанной женскими волосами резинкой, он углубленно читал кантовскую «Критику чистого разума» и даже не посмотрел на двух заговорщиков. Решить, видно ли ему что-то в этом полумраке, было невозможно, но исключать этого тоже было нельзя. Он как будто бормотал что-то самому себе, и вошедшие, кивнув с пониманием, тактично не стали включать свет – из проигрывателя доносились звуки индийского ситара, – а тихо отошли и, стоя у выходящего на каштан открытого окна, продолжили беседу о делах, касающихся их одних, а именно о следующем номере самиздата, который они редактировали. На улице Варалья уже зажгли газовые фонари.
Тем временем г-жа Папаи исчезла.
В комнате сестер под мерный звук глиняного барабана – Папаи притащил его из какой-то своей ближневосточной поездки, быть может в Каир, – в густом дыме марихуаны, который клубился перед окном, закрытым с целью звукоизоляции, в окружении разгоряченных лиц, как два негра или араба, танцевали друг с другом два брата; пот лил с них ручьями, лица горели, они зашлись в каком-то неведомом первобытном танце – под окном их младшая сестра все быстрее лупила в глиняный барабан, напротив нее на полу сидела, прислонившись спиной к стене, белокурая полька и мечтательно глядела на двух братьев, а они – босые, с напряженными спинами, – будто повинуясь какой-то неведомой силе и делая странные ныряющие движения, со всей мочи колотили ногами по полу и вились, вились друг вокруг друга.
С матерью они так и не встретились.
У товарища Доры голова шла кругом.
За тот год, что он пробыл ее куратором, как он ни изгалялся, все было впустую, впустую хвалил он г-жу Папаи, иной раз, пожалуй, даже нарочно преувеличивая[73], – г-жа Папаи встречала эти похвалы скептической улыбкой, поскольку прекрасно понимала, какую разведывательную ценность имело то, что она до сих пор добывала для них: по большей части нулевую[74]; «что взять с глупой домохозяйки?» – говорила она в такие моменты, слегка кокетничая, хотя не раз выяснялось, что она гораздо образованнее своих кураторов, не говоря уже о том, что каждое ее утро начиналось с прослушивания скрипичной музыки в исполнении Иегуди Менухина. Похвалы ее радовали, это правда, но поскольку в делах, с ее точки зрения, важных она «терпела одно унизительное поражение за другим», а все это в целом воспринимала как взаимный обмен услугами, у нее оставалось ощущение горечи. Ее просьбы, связанные с чем-то очень важным для нее и требующим обязательного разрешения, в обиходном языке справедливо именуются «доносом», но она относилась к ним по-другому: она с твердых позиций отстаивала интересы дела и рассчитывала на поддержку Партии, стоящей с ней на одной стороне. О Партии она не думала как о чем-то противостоящем или чуждом ей, ибо Партия была для нее и Богом, и Родиной, и семьей; да, Партия стояла выше нее, Партию нужно было защищать от нападок, Партия была для нее даже важнее собственной семьи, каковую она почитала за настоящую святыню. Г-жа Папаи оставалась верна идеологии пятидесятых годов. От нее она не отступалась, хоть и могла позволить себе критику. Она была восприимчива к искусствам, была готова помочь любому, кто обращался к ней со своей бедой, помогла куче людей, в том числе и тем, кто этого не заслуживал; она говорила на нескольких языках и разбиралась в напастях, которые могут постигнуть душу и тело человека; как практикующий переводчик, она соприкасалась с людьми, принадлежащими к самым разным классам общества, с венграми и с иностранцами, и, как правило, очаровывала своих собеседников – но в одном оставалась непреклонна. Этого-то Дора и не понимал, этой двойственности: удивительная гибкость и чувствительность, бесконечная открытость и любознательность в определенных вещах, главным образом в том, что касалось искусства, романтическое воображение – и при этом замкнутые в самих себе, непреложные, несокрушимые догмы, которым г-жа Папаи явно присягнула на верность. В душе этого агента зияла настоящая бездна, и глубину ее Дора измерить не мог. Однако при всей разности в целях и средствах сообщничество между старшим лейтенантом и г-жой Папаи за год только укрепилось, причиной чему, возможно, была регулярность их встреч. Г-жа Папаи чувствовала, что есть нечто, о чем она не может сказать никому, и что травмы, о которых она не может говорить даже с самой собой, нужно похоронить глубоко в душе, в том числе и самую глубокую травму, которую необдуманное замужество лишь усугубило. Правда, ее готовность сотрудничать с тайной полицией подогревалась и очарованием подпольной жизни: хоть это очарование и поблекло с годами, оно напоминало г-же Папаи о богатой на приключения юности в рядах нелегального движения, о бессонных ночах, проведенных в оливковых рощах и колючих зарослях в компании видавшего виды автомата и отчаянно небритого молодого мужчины – пьянящий запах его пота мешался с накатывавшим горячими волнами густым ароматом эвкалипта и апельсина. Что же до все более задушевных разговоров, которые она вела со старшим лейтенантом – постепенно г-жа Папаи становилась все откровеннее, едва ли не вплотную подступая к опасной для нее самой черте, – то они создавали странную иллюзию дружбы между ними. Она делилась со старшим лейтенантом своими повседневными заботами и раздумьями, причем не только личными проблемами, но и сомнениями по поводу дальнейшего сотрудничества, которые больше и больше мучили ее. Несмотря на смутные дурные предчувствия, товарищ Дора не отказывался от сотрудничества с г-жой Папаи, он делал это вопреки своим убеждениям, ведь со временем в нем окрепла уверенность, что г-жу Папаи надо отпустить, что этому «нещадному живодерству», как он выражался (иной раз у него скребло на сердце, когда он встречался глазами с измученным взглядом г-жи Папаи), пора положить конец, но все зря – сделать этого он не мог, это его работа, за это ему платят деньги, поражение для него недопустимо, раз уж товарищ подполковник Бейдер, ранее курировавший г-жу Папаи, смог показать столь прекрасные результаты. Едва ли не каждый день у него возникало чувство, что г-жа Папаи, которая выжимала из себя все соки, стараясь выполнить его – зачастую до смешного мелочные – поручения, не заслуживает такой судьбы[75]. Написанные ею характеристики и краткие сообщения[76]о нигерийских, танзанийских, палестинских, иракских и индийских журналистах были занимательными[77], порой свидетельствовали о глубоком знании людей[78], однако на основании ее сообщений или каким-либо иным способом ни одного журналиста пока еще не удалось заманить в силки. Эти африканские и азиатские журналисты были недоверчивыми[79]и к своему пребыванию в Венгрии относились, по сути, как к летнему отдыху[80]. Иной раз старший лейтенант с легкостью отметал сомнения, связанные с г-жой Папаи, но уже в начале их только завязывавшихся отношений, в марте, его как током поразило одно письмо – без адресата, – которое г-жа Папаи направила директору школы журналистики и которое, естественно, едва ли не сразу попало к нему, о чем он г-же Папаи не сказал. Позже, правда, настроение у г-жи Папаи улучшилось – «она человек настроения», думал Дора; на этот счет он тоже прошел специальную подготовку в разведшколе, он знал, как, не изменившись в лице, принимать подобные взрывы эмоций; в конце концов, опыт ведения допросов оборачивался для него большим подспорьем, когда приходилось иметь дело с душевным состоянием сетевых сотрудников, – но высказанные в этом письме соображения все равно преследовали его на протяжении многих дней – в трамвае, в служебной машине, дома перед телевизором, потому что в этом письме г-жа Папаи как будто заигрывала с мыслью о самоубийстве и говорила о каких-то грехах, которые вынуждена искупать собственной депрессией. Только бы г-жа Папаи не проговорилась где-нибудь и не похерила весь его многолетний упорный труд! Он охотно бы поделился этим письмом дома с женой, но работу он с ней обсуждать не мог – разве что ответить односложным «да», когда она спрашивала: «Что, трудный был день?» И хотя потом тучи рассеялись и г-жа Папаи с новой энергией и присущим ей воодушевлением бодро участвовала в жизни журналистской школы, мартовское письмо все же было трагическим криком о помощи, и поэтому, как заслуживает того главная героиня этой новеллы, мы приведем его тут почти целиком, без каких-либо изменений: