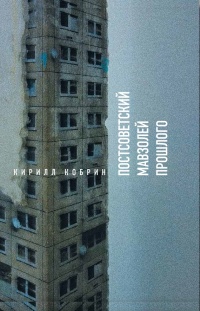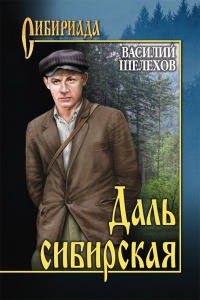Книга Показания поэтов. Повести, рассказы, эссе, заметки - Василий Кондратьев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако меня, очень занятого предупреждением на ксерографии, волнует не сам поступок, который можно объяснить и аффектом, а скорее то, когда выносится приговор. Петрюс Борель, Ликантроп, изображённый в чёрном, держащим у груди кинжал, умер вполне случайно. «Чёрный человек с белым лицом», Ксавье Форнере, спавший в гробу, сошёл в него совершенно естественным путём. Романтики, сделавшие Смерть своей любовницей, праздновавшие парижскую чуму, отголоски которой в маленькой трагедии Пушкина, так жили с этим своим будущим, как будто будущее никогда не придёт. Даже и Жак Риго, первый самоубийца сюрреалистов, Риго-Смерть, покончил с собой только на четвёртый раз. Что касается моего приятеля, то о его самоубийстве можно судить по его же словам, но не по самому случаю, который легко мог оказаться несчастьем.
Он вообще напоминает мне того Мурзилку, чей портрет на обложке книги, самого умного, ловкого и храброго среди лесных малюток. Он одевается лучше всех, по картинке, которую сам разыскал в модном журнале. Его высокая, лоснящаяся шляпа-цилиндр куплена в лучшем парижском магазине; таких красивых ботинок ни у кого нет, а тросточка, с которой он никогда не расстаётся, – это верх изящества. В одном глазу он носит стёклышко, но не потому, чтобы он плохо выглядел или был близорукий, а потому, что он находит, что это очень красиво. Когда он идёт куда-нибудь в гости, то всегда в петлицу втыкает розу и надевает высокие, белые, как снег, воротники, которые очень к лицу. Над ним смеются все лесные человечки, что он щёголь и франт, и даже (он этого не скрывает) зовут его Мурзилка Пустая Голова.
– Но, конечно, – говорит он, – это просто от зависти. Разве на «пустой голове» сидела бы так хорошо высокая шапка? Понятно, нет! А носить так изящно стёклышко в глазу, и держать так ловко трость, и ходить так легко, в таких изящных ботинках с длинными узкими носками разве в состоянии была бы «пустая голова»? Конечно, нет! У меня голова не только не пустая, но, напротив, полна самых умных замыслов.
Правда; теперь, когда я не вижу его живого, в моих воспоминаниях манера держаться, лёгкость в интонации сами собой рисуют маленького денди, «глоб-троттёра», изобретателя и чудака. Он позволил себе роскошь, мысли, которые можно не продолжать, замыслы, осуществимые только в воздухе. Он мог бы стать живописцем, если бы не выдумывал картин, которые можно представить, но нельзя нарисовать; писателем, если бы его образы не выражались в словах, непечатных не потому, что они гадость, а потому, что их быть не может. Впрочем, с таким же условием он мог бы стать пчеловодом, картографом, брокером или пожарным. Во время наших прогулок он вёл себя как советский разведчик в глубоком тылу врага. Да, его последняя записка подписана «Капитан Клосс».
И ещё: Чилим Салтанов, Радж Капут, Семён Растаман и Марлен Заич Мепет-Мепе. Уже в том, как он любил все эти переодевания, двойники и прочие альтер эго, можно понять, почему его исчезновение подогревает мои страхи. Не есть ли эта подозреваемая мной патология, диковинное произрастание человека, в его желании стать тем Фантомасом, который стремится к власти над миром, распространяя себя до его подобия? Какими словами он поджидает момент, когда невероятные измышления Парацельса вдруг сбудутся, уже помимо его самого?
Тем, кто не знаком со слов Альфреда Жарри с делами и мнениями д-ра Фостроля, будет интересно узнать, что есть дисциплина, которая то же по отношению к метафизике, как последняя – к физике. Однако, в отличие от обеих, применяется только в оперативных целях. Основания патафизики были заложены на заре века сильнодействующих средств, на неиспорченный организм она может подействовать, как называют медики, парамнезией, а по-нашему, сделает из него «гага». Мы обращаемся к ней в трудных случаях, когда странности и парадоксы сделали жизнь эксцентрической несколько выше сил. Здесь и вступает не признающая противоречий «наука воображаемых решений», для которой любая возможность дана реально.
Разгадка загадочной смерти моего приятеля в самом способе её, точнее сказать, технологии, связанной с превышением обычной дозы. Он умер второй раз, второй смертью, всего лишь шагнув в окно, случайно или ему захотелось, неважно. Гораздо больше, и это вещь близкая, мне интересно, когда впервые. Тогда ли, когда в горьком аромате от папиросы, исполнившем дыхание, ему почудился поцелуй? И голос, который он раньше называл внутренним, вдруг нежно, прозрачно заговорил с ним, в дымке почувствовался очертанием, как будто тёмная женщина закрыла ладонями его лицо, а потом вихрем карт разлетелась по комнате, в окно, и перед ним открылся город, и она в нём, и он, и он в ней. С тех пор каждое его движение, его прогулки составляли танец, которым – не понимаю как – он призывал тот момент, когда она зашла к нему и села на его колени. Возможно, она была в вечернем платье, каучуковых перчатках и хирургической маске. Он развязал маску, она наклонилась и поцеловала его, так что стала его, совсем близко. Всё остальное как кинолента, склеенная из счастливых концов.
С моих слов записано верно. Я мог бы этим закончить, если бы то, что я рассказал, было настолько неправдоподобно, что не случилось бы и со мной. Я никогда не стал бы писать о том, кто, удерживаясь за шасси, выдержал шестичасовой перелёт над океаном или кого всей швейцарской семьёй Робинзон оставили на озёрах в Африке. Но суеверные опасения, кошмары ребёнка, которому показали мумию, заставляют писать, освобождаться, пока моё любопытство не пересилит здравый смысл. К тому же, когда я прочёл у Пико делла Мирандолы о «поцелуе смерти», или «союзе поцелуя», у меня начались проблемы с женой.
Я верю, что чем больше я буду проникать в жизнь моего покойного приятеля, входить в его роль, тем вероятнее, что он своей гибелью спасёт меня, как каскадёр, подменивший собой камикадзе. В конце концов, если вспомнить стихи Дени Роша, он был «действительно королевский пилот».
Виктору Лапицкому
Гадать на прошлое – вот бесполезная, никому не впрок, трата времени. По смеху, в походке, по семи знакам на стопах – и из шёпота некромантических звёзд, выдающих секреты, – предчувствие, слабый попутный магнит, не вернёт вспять; карты лягут из ниоткуда. Ни «славная рука» висельника, ни свеча из ослиного семени не просветит в этих потёмках, пока те распускаются здесь и там в странных событиях и портретах. Как говорится, сеют на всякий ветер.
Есть зачарованные лица. Они как зеркало гадания, по которому зеленоватые искры воображения вьются, напоминая легенды, картёжные пассы, балет – всё, что составляет развязки, страсти или роман. Не в письмах, вовсе не на бумаге – и не такой, после которого остаются засохшие цветики и сувениры.
На память придёт вдруг, со дна. Лицо возникает на чёрном экране: бледное и неспокойное, губы дрожат – лицо внезапно и неловко знакомое, напоминающее сразу все «горести любви, которым длиться век». Но это ярмарочный «фантасти´к», аппарат, показывающий из‐за тёмной ткани неверные картины свечки «волшебного фонаря». Китайские тени трепещут, как волосы горгоны; золочёный вертеп с куклами злого царя иудейского и его сарацинов, фокусник с головой на блюде, обычный святочный балаган.