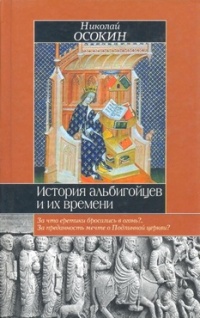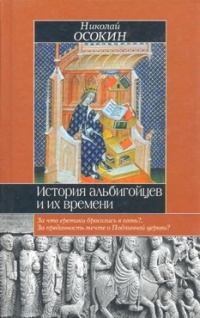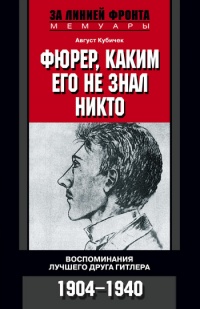Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я слушал их ругань с большим трудом, потому что вспоминал оршанку. Тот сон поразил своей ясностью, и, перебирая его моменты, я так и не смог определить, где пролегала граница с явью. Когда же удавалось вернуться в штаб и подхватить мысль спора, ясным, прозрачным для меня становилось его истинное значение: эмигрантам не хотелось бросать теплое место, поддерживающее горение их самолюбия и тоски по настоящему делу, и теперь они не слишком удачно боролись с совестью, противящейся идее отправить людей стрелять в собратьев.
Грачев, мягко прервав Сахарова, выложил обе свои карты. Одну — предложение от Гетцеля возглавить армию — приняли спокойно. У Кромиади, видимо, не осталось иллюзий. А вторую Грачев от меня скрыл. «Гетцель обмолвился, — произнес он, — что в плен захвачен именитый советский генерал. Этот генерал согласился сотрудничать и работает над воззванием к немецкому командованию, а может быть, и самому Гитлеру. В этом послании он будет просить сформировать русскую антисталинскую армию». Слушатели молчали. Кромиади и Сахаров обменялись пудовыми взглядами. «Мне кажется, в ваших силах, — продолжил Грачев, — срочно встряхнуть абвер и заставить их активнее участвовать в наших делах, иначе решения так и будут приниматься через нашу голову».
Мы спустились по ступенькам в темноту. Редкие огоньки казарм, бушующий ветер, скрип раскачивающейся водосточной трубы, тревожные звезды над торфяными полями — все кричало о надвигающейся беде. Я будто бы поднялся над Осинторфом и, почувствовав карту, полетел над железной дорогой через Днепр к Смоленску, его многоглавой церкви, древней стене, через раскромсанные, оставленные с костями печных остовов деревни и дальше мимо ржавых танков, через грязь проселков, к Ярцеву. Правда, чем ближе я подлетал, тем гуще земля была затянута дымом, и с каждой станцией воображение мое слабело и я сознавал, что даже представить не могу, что случилось с мамой, сестрами и Анатолием. Вот отец срывает яблоки и бросает вниз, а они, дурачась, ловят их в таз и в корзины, а потом поворачиваются ко мне светловолосыми затылками и к ним приближаются дула винтовок. Ужас вцепился мне в плечи, и, отпрянув, я сел у куста шиповника и горько заплакал. Командиры разошлись по квартирам и стесняться было некого. Я вспомнил разговор в штабе и понял, что нас выгонят в лес против партизан и придется выбирать, стрелять ли в своих — в настоящих своих, ведь до Ярцева отсюда каких-то сто пятьдесят километров. Можно, конечно, уйти к самим партизанам, рискуя быть пристреленным ими же или немцами. Или все как-нибудь обойдется и мы войдем в столицу под незапятнанными знаменами? В изнеможении я лег на траву, и встал только через час, когда одежда пропиталась росой, и решил больше никогда не вспоминать их лица, чтобы не сойти с ума, — ни девочек, ни Толи, ни родителей — и представлять их темными фигурами в углу комнаты, и молиться за них непонятному кому и как. Ежась, семенящим шагом я добрался до койки и заснул, не желая просыпаться.
Около трех недель мы прожили в незнании и в отсутствии новостей. Штаб связался по телефону с Ивановым в Берлине, и тот вроде бы начал наводить справки. Кажется, еще раз в Осинторф наведывался Гетцель, и Кромиади потихоньку убеждал его повременить и не подключать батальоны к акциям против партизан. Чтобы отвлечься, я изучал Шклов — разнесенный снарядами и подожженный красными, но более-менее подлатанный город размером с Ярцево. Как-то после обеда я встретил выходившего из квартиры Ламсдорфа, и тот предложил прогуляться. У Ламсдорфа на этот раз было великолепное настроение. Напротив заколоченной православной церкви с сорванным крестом курил старик в костюме-двойке, смазных сапогах и картузе. Самокрутка намертво прилипла к его нижней губе, и он даже не утруждался брать ее в пальцы. «Интересно, — сказал Ламсдорф, — что с местной еврейской общиной. Шенкендорф умолчал об этом и помянул лишь, что все ритуальные учреждения приспособлены для нужд гарнизона». «Наверное, отправили в трудовой лагерь», — ответил я, вспомнив Сувалки. Комендант направился к старику.
Чуть наклонясь и поздоровавшись, Ламсдорф спросил его, не знает ли он, что случилось с еврейской общиной. Старик, рассмотрев нашу форму, заковылял вниз по улице. Нагнав его, Ламсдорф повторил вопрос, заглядывая ему в лицо. Я заглянул тоже: кожа его напоминала подспущенный мяч, хотя и не так уж была истерзана морщинами. Старик выплюнул папиросу, сосредоточенно изучил грунт под ногами, а потом коротко разрубил ладонью воздух крест-накрест. Видимо, наши лица выражали такое недоумение, что он отомкнул уста. «Вы вроде бы офицер и не совсем немецкой армии, но все-таки, — продребезжал он. — Неужели вам не сообщают?» Ламсдорф поклялся, что ничего не знает о шкловской общине. Старик рассказал, что не прошло двух недель с начала войны, как бежавшие на запад жители местечек принесли известие, что евреев любого возраста и пола расстреливают, а перед этим сгоняют в огороженные колючей проволокой кварталы. Шкловским евреям уезжать не давали, чтобы не сеять панику. Он, учитель математики, убеждал патрули, что задерживать тех, кто хочет уйти, значит обрекать их на смерть. Сбежать смогли лишь десятки семей, хотя евреев здесь жило шесть тысяч. Когда Шклов заняли немцы, многие обрадовались, потому что те поощряли свободную торговлю и самоуправление. Немцы насильно впихнули в городской совет фабричное руководство и поручили ему согнать всех евреев в огороженный квартал на Льнозаводской. Охотники помочь сразу нашлись, хотя их было не так уж много. Впрочем, много и не потребовалось — из шести тысяч жертв почти никто не бунтовал. Вскоре явилась особая команда, которая колесила по окрестностям с одной лишь задачей. Их главного, штурмбан-нфюрера, звали Гюнтер, и они долго с евреями не церемонились. За два месяца команда убила большую часть во рвах рядом с полем, где располагалось стрельбище нашего батальона. Поле оцепляли. Стреляли в затылки из винтовок, по две на одного взрослого. Детям полагался один выстрел. За месяц умертвили большую часть, а остальных в другом месте, чуть позже.
Учитель замолчал, у него долго не получалось сглотнуть. В конце концов он справился и вспомнил, как по Вишневой к еврейскому кладбищу повели не только мужчин, но все семьи, целиком, и соседи передавали друг другу, что теперь ведут и женщин, и детей. Со всего города пришли некоторые люди, немного, человек, может быть, сорок, и шли с евреями. Они не протестовали, просто изображали зевак, громко говорили, а сами старались закрывать детей от конвоиров. Гюнтер растерялся, потому что раньше зеваки не присоединялись к команде, а теперь, видимо, хотели наблюдать, как расправляются над евреями, и решил, наблюдать запретит, но вывести процессию за черту города мешать не будет. «Вот так вот в толпу уходили детки, которым везло. Я мог коснуться руки девочки одной из четвертого класса и тихо-тихо оттеснить ее к одной семье, белорусам. Они стояли у забора и делали мне знаки, но я испугался и подумал, что улица длинная и еще, может быть, кто-то ее возьмет. Родители этой девочки сообразили, что делать, — мать отпустила ее и вцепилась своей рукой в ладонь шедшего рядом отца, и с нее капала кровь. Я замешкался и потерял девочку из виду. Некоторые меня узнавали, я же учитель, и давали сигналы взглядом. Я несколько раз уже почти решался, но то солдаты окрикивали, то идущие шли как-то не так, не закрывали меня, и я так никого и не спас». Ламсдорф снял фуражку и вытер пот. «Отец, мы русские солдаты. Мы — русские. Моя матушка в Париже спрятала две семьи евреев, хотя в нашем арондисмане уже проверяли квартиры». Старик посмотрел на него с горечью: «Какой я вам отец, мне сорок три года. А вы в своем Париже не могли догадаться, что делают с евреями?» «Нет! — зашептал Ламсдорф. — Мы думали, что их сгонят, поселят вместе. Самое большое — слышали, что их отправляют работать на фабрики. В Берлине тоже никто не знает о расстрелах». Учитель покачал головой и сунул в рот папиросу. «Эти ребята, — сказал он, — ну, которые стреляли в евреев, они жили в ваших казармах и ходили обедать в столовую. Я наблюдал за ними. Я думал, что они звери. Но они ничего не громили. Я немного знаю немецкий язык, они болтали про свои семьи, читали письма из дома. Многие успевали вытащить у евреев перстни, всякое золотишко и беспокоились, как переправить это родным, чтобы не отобрали полевые жандармы. Никто не напивался, да и сумасшедших среди них я не видел. Они купались в Днепре в стороне от моста и мылись прямо у берега. Пена вот так плыла по течению. Только иногда бывало такое, что кто-то из них сидит в столовой и прямо вперивается в стену, будто там висит что-то такое, чего другие не видят. Гюнтер, если это замечал, сразу обнимал солдата и брал ему водки, а остальным говорил: кто-то же должен делать эту работу, и ее делаем мы, избавляем от нее камерадов, и в этом, мол, наш высокий долг. Ребята они были обычные. Обычные такие ребята».