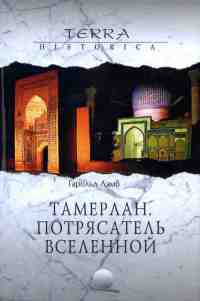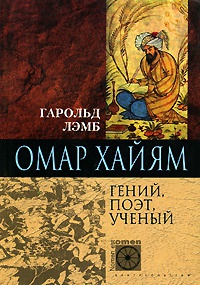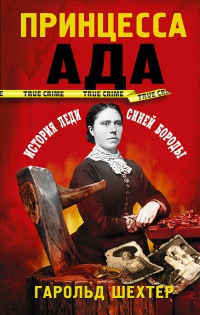Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лия — прообраз Мательды, а Рахиль — предвестница Беатриче, но увидеть в них антитезу деятельной и созерцательной жизни трудновато:
Пусть всякий, кто спросит, как я зовусь, знает — я Лия, и на ходу я плету прекрасными руками венок; чтобы порадоваться своему отражению, я украшаюсь, а сестра моя Рахиль не отходит от зеркала и сидит перед ним целыми днями. Она так же рада любоваться своими прекрасными глазами, как я — украшать себя своими руками. Ей любо глядеть, мне — делать.
Уничтожило ли эти метафоры время? Или они не устояли перед феминистской критикой? А может быть, в постфрейдовскую эпоху мы чураемся восхваления нарциссизма? Определенно, комментарий обычно точного Чарльза Уильямса по нынешним временам вызывает чувство некоторой неловкости: «Данте в последний раз видит сон: о том, как Лия собирает цветы — разве может быть другое деяние? И о том, как Рахиль глядится в зеркало — разве может быть другое созерцание? Ведь теперь душа может по праву радоваться себе, любви и красоте».
Образ собирающей цветы Лии, или Мательды, в качестве символа деяния или созерцания некстати приводит мне на память рисунок Джеймса Тербера, на котором две женщины наблюдают, как третья собирает цветы, и одна говорит другой: «В душе она настоящая Эмили Дикинсон, вот только ей иногда надоедает». Созерцающая себя в зеркале Рахиль, или Беатриче, напоминает о том неудачном месте у Фрейда, где он сравнивает женский нарциссизм с кошачьим[121]. Несомненно, мои ассоциации произвольны, но типологизация, какие бы ученые пояснения ее ни сопровождали, не всегда идет Данте на пользу. В том, что он задумал «Комедию» поэмой о своем обращении, о том, как он стал христианином, я очень сильно сомневаюсь. Если это и так, то «о чем» здесь имеет весьма поверхностное значение. В глубине своей «Комедия» — о том, как Данте был призван на стезю пророка.
Чтобы сделаться христианином, необязательно подбирать милоть Илии[122] — но только если вы не Данте. Образ Мательды, сменяющей Прозерпину в возрожденном Земном Раю, является не новообращенному христианину, но пророку-поэту, чье призвание подтверждено. Шелли, поэта-пророка не от христианства, а от лукрецианства, фрагмент о Мательде преобразил потому, что высветил для него страсть поэтического призвания, восстановление райского начала, оставившего его великого предшественника Вордсворта. Мательда — потому предвестница Беатриче, что возрождение Прозерпины делает возможным возвращение Музы. Беатриче же — не имитация Христа, а творческое начало Данте, силящееся отождествиться с давней любовью, настоящей или во многом воображаемой — неважно.
Идеализация утраченной любви — практически универсальная человеческая практика; мы проносим через годы память об утраченных возможностях для себя, а не для другого человека. Беатриче так удачно ассоциируется с Рахилью не оттого, что они обе представляют собою созерцательную жизнь, но оттого, что они обе суть страстные образы утраченной любви. Для Церкви Рахиль значима потому, что Церковь видит в ней символ созерцательности, но для поэтов и их читателей она значима потому, что великий рассказчик, Яхвист, или J, сделал ее раннюю смерть при родах великим горем жизни Иакова. В поэтической типологии Рахиль предваряет Беатриче в качестве образа ранней смерти возлюбленной, а Лия связана с Мательдой через идею отложенного исполнения обещания. Иаков служил Лавану за Рахиль, но сперва получил Лию. Данте жаждет возвращения Беатриче, но путь к Беатриче через Чистилище сперва приводит его к Мательде. Это час Утренней звезды, планеты Венеры, но он сводит Данте с Мательдой, а не с Беатриче. Мательда поет, как бы объятая любовной негой, и Данте идет с нею, но это — лишь приготовление, так же как Лия была приготовлением к Рахили.
Внезапно перед поэтом словно из-под земли вырастает триумфальная процессия, описание которой основано, к немалому нашему потрясению, на Иезекиилевом видении «колес и устроения их», колесницы и подобия человека на подобии престола. Данте скрадывает это потрясение, отсылая читателя к тексту Иезекииля за неописуемыми подробностями и наследуя Откровению Иоанна Богослова в понимании Иезикиилева человека как Христа. Для Данте колесница — это победа Церкви, не такой, какой она была, но такой, какой она должна быть; эту идеализированную воинственность он окружает книгами обоих Заветов, но опять же не для того, чтобы опереться на них, а для того, чтобы они не стояли у него на пути. Все это, даже символизирующий Христа Грифон, имеет значение единственно благодаря красоте, о которой возвещает, возвращению былой любви, более не утраченной навеки и невозвратно.
Явление Беатриче в XXX песни «Чистилища» предполагает исчезновение Вергилия. Она делает Вергилия лишним — не потому, что в этот момент богословие заменяет поэзию, но потому, что Дантова «Комедия» к этому моменту полностью заменяет Вергилиеву «Энеиду». Вопреки собственным недвусмысленным словам, Данте (в первый и единственный раз в своей поэме называемый — самой Беатриче — по имени)[123], возводя Беатриче на престол, воспевает свою собственную поэтическую силу. Если судить с прагматической точки зрения, то разве он может делать что-нибудь другое? Сам Чарльз Синглтон, главный богослов среди первостепенных толкователей Данте, подчеркивает: о красоте Беатриче «сказано, что она превосходит все, что создали природа и искусство»[124]. Если вы хотите приравнять поэму Данте к богословской аллегории (а Синглтон от этого намерения не отступал), то получится, что только Бог посредством Церкви мог создать и длить благолепие, недоступное природе и искусству. Но мы должны все время помнить о том, что Беатриче создана единолично Данте — точно в том же смысле, в котором Дульсинея создана Дон Кихотом. Если Беатриче красивее всех женщин в литературе или в истории, то это значит, что Данте воспевает свою изобразительную силу.