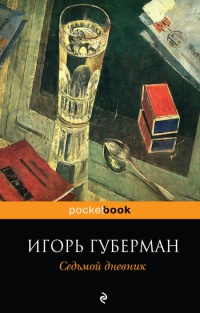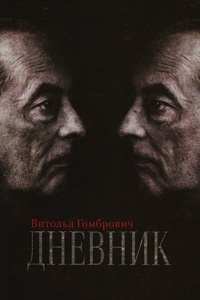Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— С автора “Бабьего Яра” я денег не возьму.
Несколько удивленная и уже собиравшаяся ко сну Галя на скорую руку накрыла “выпить-закусить”. И мы сразу же стали обсуждать самое на тот момент главное событие “в культурной жизни столицы” — выход в изуродованном виде картины Хуциева и Шпаликова.
Мы трое были к ней причастны.
Наташа и я снимались в знаменитой и роковой сцене вечеринки, ставшей основной причиной безобразного и губительного хрущевского разноса.
Сейчас смотреть на это без улыбки и растроганности невозможно. Наташа с сигаретой в мундштуке, красивая, серьезная и ужасно смешная, говорит медленным голосом:
— Среди своих всегда так скучно…
И я — совершенное дитя, с дурацкой челкой на лбу по тогдашней моде и с сигаретой, — десять раз подряд — меньше дублей Марлен обычно не снимал — поднимаю вверх, как на ринге, руку тоненькой, в сереньком платьице Оли Гобзевой.
А она десять раз подряд нервно и отчаянно — за циничное высказывание — по-настоящему — хлещет по щеке Андрея Тарковского, то есть того из разряда “золотой молодежи”, кого он довольно похоже изображал.
Хозяйкой квартиры, где мы собрались, по-нынешнему — на тусовку, была восхитительно юная и красивая Маша Вертинская. За пределами декорации, занимавшей почти весь большой павильон на студии им. Горького, одиноко блуждал Шпаликов. Он переживал за меня как за актера. Время от времени его лицо появлялось в проемах между какими-то полками и карнизами, он республиканским жестом поднимал вверх руки и подбадривал меня:
— Паша! Давай!
К восьмому примерно дублю я, стоявший очень близко, вижу слёзы в глазах у Оли. И у Андрея. Который таким счастливым приехал на съемку с Гнездниковского переулка, где узнал, что “Иваново детство” отправляется на Венецианский фестиваль.
Евтушенко, конечно, фигурировал в не менее знаменитой — и не менее роковой — сцене выступления поэтов в Политехническом.
Обе эти сцены приказали как-то правильнее доснять.
Но тем вечером Евтушенко совершенно неожиданно сказал: “А ведь картина с самого начала была конформистская”.
Тогда я, настроенный весьма вольнодумно, с этим согласился. А сейчас сомневаюсь. Хотя и по-прежнему настроен не менее вольнодумно.
В этой картине для меня совершенно явно то, что идет от Хуциева и что от Шпаликова. Конечно, в целом все это было больше желаемым, чем действительным, но с очень точными и поэтическими подробностями времени, блистательно срежиссированными Хуциевым.
Замечательно талантливы там пластика и музыка режиссуры, с помощью камеры Риты Пилихиной отрывающие эту картину от других картин той “новой советской волны” режиссеров военного поколения.
Голос Шпаликова слышен наравне.
Культ мужской дружбы, верных и простых — “солдатских” — отношений, неприятие никакого, даже оправдываемого предательства. Всем делиться, ничего не скрывать и приходить на помощь по первому зову, откуда бы — из какой беды, из какого бы дна — он ни донесся.
Тут было и влияние прошедшей войны, и влияние правды о 37-м годе, и недолгое влияние республиканских идей, Хемингуэй, Испания. Тут было то, что если и не говорилось нами открыто — пафоса мы чурались, — но постоянно ощущалось в духе нашей компании. То, что переживалось и пелось. Особенно тогда, когда в нашу жизнь пришел Окуджава.
Тремя-четырьмя годами позже сидели в Ленинграде за столом на праздничной какой-то пирушке у моих друзей Володи Венгерова и его жены Гали. Окуджава с гитарой во главе стола. Товарищ его, Гриша Аронов, режиссер, попросил:
— Булат, спой “Комиссары в пыльных шлемах”.
Пауза. И Окуджава сказал:
— Знаешь, Гриша, я пересмотрел свое отношение к Гражданской войне.
Но тогда пока еще, могу сказать, не стесняясь, мы были последним оплотом романтизма. А он тем и отличается, что желаемое превращает в действительное — хотя бы ненадолго, хотя бы на время одного застолья, одного объятия, одного стихотворения.
Романтизм и конформизм? Да, они совместимы. Иногда, к несчастью, именно романтизм и является причиной конформизма и еще кое-чего похуже. В лучшем случае конформисты — это еще и те, кто радуется, когда удается не совершить подлость.
Я не оправдываю, но и не осуждаю конформизм советского времени. Я, вместе со всеми переживший это время, понимаю его. Понимаю, что порой он был необходим и спасителен для сохранения огня. Однако в любом своем виде конформизм всегда лукав. Так или иначе, он все равно имеет в виду ту или иную выгоду — то ли личную, то ли общественную.
Шпаликов был прежде всего романтик, а не конформист. Он был совершенно искренен и бескорыстен. И действительно верил безотчетно в нелепую эту страну, и действительно верил в “картошку, которой спасались в военные годы”.
Однако страна как-то в последнее время не очень отвечала ему взаимностью, и это было совершенно ему непонятно. Страна, правда, распевала “Я иду, шагаю по Москве”, но знать не знала о том, как худо автору этих романтических слов.
Во все времена в этой стране под легкий плащ Моцарта надо поддевать грубый свитер Сальери.
В болшевском номере он ставил перед собой на столе фотографию дочери и подаренную Некрасовым маленькую — в рамке — репродукцию с картины Утрилло. Зимний денек, Монмартр… Париж, где он не был и никогда не побывает. Надевал на голову красный вязаный — детский — колпачок. И писал.
Среди всех “подсунутых” свидетельств нашей жизни в Болшеве — в последний год — нахожу и такое. Узкая бумажка, и на ней адрес — оранжевым фломастером: “26 июля. В. П. Некрасов. Крещатик, дом 15, кв. 10”.
Вспоминаю и не могу точно вспомнить, зачем он мне дал адрес Некрасова? Скорее всего, ему в голову пришла идея, что я немедленно должен ехать в Киев и увидеть “Вику”.
В Киев я приехал много лет спустя — к сыну в гости. И действительно пришел по этому адресу. Дом 15 в Пассаже — мемориальная доска. Виктор Платонович с вечной папиросой.
Некрасова я узнал гораздо раньше, чем Гена. Еще в детстве. Это опять все тот же дом на Смоленской, квартира моей бабушки, квартира моих некровных родственников — Раечка Линцер, Игорь Сац. И двоюродный брат Женя.
Гена крепко подружился с Некрасовым во время “Заставы”, конечно, через Марлена Хуциева, которого он называл Мэн.
Мне рассказывал мой сокурсник Женя Котов, он снимал тогда комнату в домике на Волхонке, напротив Музея… На рассвете, проснувшись, подошел к окну. По совершенно пустой улице идет на руках Гена Шпаликов, а Некрасов поддерживает его за ноги. Это они отпраздновали первый — дохрущевский — рабочий просмотр уже готовой “Заставы”.
Ночь, проливенный ливень только что прошел. Я веду от себя к Илье Нусинову совершенно пьяных Некрасова и Шпаликова, я почему-то трезвый. Мы идем по черному, мокрому асфальту по центру Сивцева Вражка, я между ними, держу их под руки. Вдруг — запоздавшая молния, и над нами ослепительно взрывается какой-то троллейбусный, что ли, провод и падает, раскаленный, на нас. Я толкаю их, и успеваем шарахнуться в стороны. А они даже не заметили, продолжали смеяться и нести какую-то пьяную остроумную чепуху.