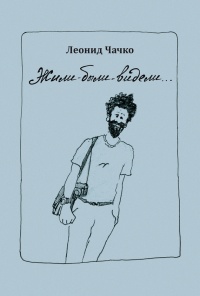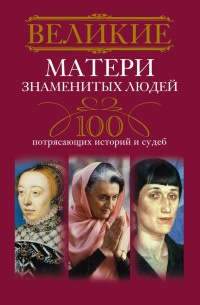Книга Цвет винограда. Юлия Оболенская, Константин Кандауров - Л. Алексеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но работает она много, и ее зал на выставке представят полтора десятка картин. Среди них два новых автопортрета – в зеленом (в письмах он часто называется «зеленая кофточка») и «Письмо» (или «Январь»). Один Юлия Леонидовна закончит в самый канун нового 1915 года и впервые останется удовлетворена тем, что получилось. Она пишет Константину Васильевичу 30 декабря: «Я кончила сегодня зеленый портрет и чувствую от него покой. Он страшно определенно вошел в свои рамки, и почему-то это первая моя работа, за которую я как-то покойна. Пусть она плоха, уродлива, что угодно, но что-то в ней отлилось полностью, и эта полнота сказанного дает удовлетворение. Вещь очень тихая и не яркая, незаметная, но я мечтаю прямо со страстью, как покажу ее тебе, – не знаю, почему!»[224] Хрупкая девушка, сидящая в неустойчивом равновесии между двух окон и зеркала за спиной – слегка опершись на локоть и чуть согнув кисть правой руки – внимательно и настороженно смотрит на зрителя с небольшого холста. При всей камерности портрета это действительно очень целостная и гармоничная работа: глубокая по тону, насыщенная изумрудными оттенками цвета, с которыми «играет» льющийся из окон голубоватый свет. Пленяет и особенная, бархатистая поверхность живописи – своим специальным рецептом грунтовки холста воском Константин Васильевич очень гордился.
Выполненный следом и в том же антураже автопортрет с письмом пока известен только по фотографии и описанию – как всегда живописному и романтичному: «‹…› Знаешь, отчего – “Январь”? Под Рождество я ждала тебя утром в столовой. Над ослепительными крышами, золотистым с бирюзовыми тенями снегом неслись в солнечном воздухе клубы дыма как табуны синих лошадей – прямо на меня. В комнате от их приближения темнело, а они обрывались в бездну, и опять на скатерти играли солнечные пятна – и опять рождались новые призраки из золотых труб. За окном было какое-то колдовство, а ты все не ехал. Все томительнее становилось на душе. Ты приехал все же! И весь январь затем я не могла забыть того утра; да и часто повторялась та же картина какой-то колдовской жизни за окном, ослепительных холодных чар. Не знаю, понятно ли? У меня сделано не совсем так: очень облегчены дымы, чтобы не лезли вперед. Они чуть заметны, легки, иначе слишком обратят на себя внимание. Опять вышло, что мои опущенные в письмо глаза открыты в этом окне – как твоя улыбка переведена в пейзаж»[225].
Впрочем, сентиментальные ноты сменяет смешливая интонация. В ответ на вопрос Кандаурова, как же все-таки должен называться портрет, Юлия Леонидовна пишет: «Дорогой мой, рама на “Январь” заказана, а окрести его, как сам знаешь. Можно так: “Письмо с передовых позиций” или “Приятное чтение” и т. п.»[226].
Несколько работ представляли «Игрушки в пейзаже» – так они поименованы в каталоге. В письмах эти вещи фигурировали как «Львы», два «Рая» и «Деревня», которая выглядела так: «Церковь белая, избушки и сарай будут, березы и рябина в изобилии, в реках утки (желтые на синем), баба из реки несет воду поить тройку, а мужик ведет корову на водопой, а девки не пускают и смеются над его маленьким ростом. В центре Белотелова в натуральную величину, а справа курица тоже в натуральную величину! Еще есть бараны. Все расставлено без мысли о реальности, но, как и в 1-м “Раю”, вышла какая-то перспектива без перспективы! Я нарочно не изменяла размеры и делала даже колесики»[227].
Из крымских работ – четыре этюда, один из которых «Виноград», и первый автопортрет, собственность Кандаурова. И опять ироничные замечания автора по поводу названий своих работ: «‹…› неужели ты красный портрет назовешь “Красным портретом”? Пожалей мою молодость: ведь у Петрова-Водкина был “Красный конь”! Кроме того, дорогой немчура, имей в виду, что в деревнях церквей не бывает, на то есть село! Красные пейзажи теперь могут быть с успехом названы “Коктебель. Двуякорная бухта, пострадавшая на днях от коварного нападения турок” или что-то в этом роде ‹…›»[228].
Три натюрморта и «Окно» – фрагмент рабочей комнаты с пейзажем из окна петербургской квартиры – завершали экспозицию художницы на выставке. Из-за недостаточности места, а скорее из деликатности, Кандауров отказался только от экспонирования собственного портрета.
Для первого представления художника подбор был если не идеальный, то совершенно профессиональный и вполне достаточный. Да и ситуация, признаться, уникальная, когда вещи делаются по наставлению куратора и вдохновению художника и являются живописным кодом их творческих и личных отношений. Документальный комментарий включает еще и иную «оперативную» информацию – о подготовке выставки и других ее участниках.
10 октября 1914. Петроград
Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову
‹…› Ты пишешь о выставке. Ты же знаешь товарищей: Иванов, Грекова, Жукова, Магда. Из бакстовцев – Лермонтова. Отношение мое к их работе тебе известно, а большего тебе сказать не могу. У меня же ничего нет кроме винограда, который очень плох; к тому же ты его не видел и я не рискну портить твою выставку. ‹…›[229]
12 октября 1914. Москва
К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской
‹…› Относительно выставки скажу тебе, что если твоих вещей не будет, то брошу устраивать эту выставку. Я уверен, что виноград хорош, просто отошла от него и больше ничего. В тебе кипит кровь от желания делать все новые и новые вещи. Все это прекрасно, и тебе надо все написанные вещи или прятать, или отсылать мне. А я уж разберусь в них и постараюсь оценить по достоинству. ‹…›[230]
13 октября 1914. Петроград
Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову
‹…› Что сказать тебе о выставке? Я не знаю, есть ли что у товарищей. Кажется, мало – и я не знаю, кого спрашивать. Спрошу Иванова, Жукову ты не хочешь. Как Лермонтову? Она собственно не наша, но ты с нею говорил весной. У меня самой нет ничего. ‹…› Котичка, еще просьба: ради Бога, не вздумай выставить красный портрет, пусть висит у тебя, но не выставляй. Какое у меня делается неприятное состояние, когда подымаются вопросы о выставках. ‹…›[231]
14 октября 1914. Петроград
Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову
‹…› Котичка, дорогой, мне страшно дорога и твоя выставка, я так хочу видеть тебя самостоятельным в этом деле. Не думай, что я легкомысленно отнеслась к твоему предложению, я считаю это прямо великим делом. Но тем более мне страшно портить ее – ведь имени у меня нет, а есть большое недоверие своим силам в этой области. Если я умалчиваю теперь об этом и много работаю – это для тебя: я знаю, что тебе приятно. Без тебя вряд ли бы я даже осталась при живописи – ведь у меня были попытки уйти не раз – но конечно, это очень трудно оторвать. А во всяком случае творчество этим парализуется. Сейчас я отошла от этих мыслей, т. к. думаю только о тебе и вот работаю как умею. ‹…›[232]