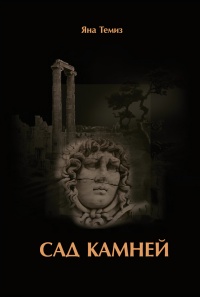Книга Голубая роза - Яна Темиз
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не слышала?! Нет, этого я не говорила! Уж слышала-то я столько всего! У вас в Турции так шумно. Все всё время кричат.
– И кто же кричал вчера? – заинтересовался Кемаль.
– У вас это, наверное, называется «разговаривать», а не «кричать». И потом, я ведь плохо понимаю по-турецки, особенно женщин. Они так тараторят: быстро, быстро!
– Значит, вы слышали женские разговоры?
– Скорее это были не разговоры, а такие крики, как будто кого-то постоянно зовут. То ли собаку, то ли ребенка. Да, а еще сын Софии – это соседка снизу, и то он маму звал, то она его. Молоко продавали: я так испугалась, когда разносчик заорал «Мо-ло-ко-оо!» – Катя старательно изобразила, как он рекламировал свое молоко. – Точно! Вспомнила: собаку Фатош зовут Леди, она гуляла и звала «Леди, Леди, Леди!», и потом с кем-то то ли пререкалась, то ли просто болтала, но громко, у вас же не поймешь!
– А вы можете хоть приблизительно сказать, во сколько все эти события происходили? – почти без надежды спросил Кемаль.
– Постараюсь, – сосредоточенно сказала Катя и замолчала. Надолго.
Таких свидетелей Кемаль любил. Им можно верить.
Они не отмахиваются от любых вопросов, говоря, что ничего не помнят, ничего не видели, ничего не слышали, но и не торопятся выкладывать все, что им лично кажется важным и интересным, и демонстрировать свою прекрасную память, сообщая все факты, произошедшие за последние полгода, а вовсе не в интересующие сыщика два часа.
Катя к ним, похоже, не относилась. Она даже наморщила лоб от напряжения и наконец стала медленно говорить:
– Так, я вышла на балкон около десяти. Точно не раньше, потому что я ждала звонка из Москвы с половины десятого до десяти. Ушла я в шесть или около того. Часа в два и примерно до трех я обедала, точнее, готовила еду и ела. Значит, с десяти до двух и с трех до шести. Конечно, я периодически уходила домой минут на пять-десять. То за другим журналом, то за шляпой от солнца, то за яблоком, то в туалет, – сообщила она без всякого стеснения.
«Все-таки иностранцы – совсем другие люди, – подумала при этом Айше, – вот ведь читаю-читаю их литературу, а все равно их менталитета не понимаю. Только что она строила глазки этому мужчине, а сейчас спокойно сообщает, что уходила в туалет. И живот свой всем демонстрировала!»
– Но с точностью до минуты я вам, разумеется, ничего не скажу, вам придется все перепроверять. Вы же можете всех поспрашивать, и они вам все точнее скажут… или, – вдруг прервала она сама себя на полуслове, – вы кого-нибудь из них и подозреваете?!
– Нет-нет, не волнуйтесь, – поспешно успокоил ее Кемаль, – мы никого пока не подозреваем. Просто нужно восстановить общую картину.
– Молочник был до обеда; мальчик, сын Софии, гулял буквально целый день; Фатош с кем-то ругалась часов в пять или полшестого, уже было прохладно, и я вскоре ушла. Еще один ребенок звал маму около часу, может, немного пораньше. Звал-звал, чуть не плакал, потом ему кто-то что-то ответил, но не его мама.
Кемаль автоматически фиксировал в своем блокноте все эти мелочи, из которых обычно и состоит жизнь. То, что мелочь для одного, оказывается совсем не мелочью для кого-то другого. В жизни и в расследовании преступлений нет ничего неважного.
Вот малыш звал маму и чуть не плакал – важно ли это? Для посторонней Кати, для молодящейся Фатош, для любого прохожего – нет, такой эпизод даже в памяти не останется, а для самого малыша? Для его матери? Для сыщика, которому надо выяснить, кто где был?
Найти разносчика молока, маму этого ребенка, того, кто ответил вместо мамы; поговорить с Софией и ее сыном, хотя он, конечно, маловат для роли свидетеля; узнать, с кем ссорилась Фатош… а нужно ли все это?
– Пойдемте со мной, – вдруг решительно поднялась с кресла Катя. – Вы посмотрите, где я точно лежала, что оттуда видно, вернее, не видно, и что и откуда слышно. А мой муж даст вам адрес отеля в Анталье.
– Большое спасибо, – Кемаль не мог не порадоваться ее добровольной помощи, хотя понимал, что вряд ли увидит с ее балкона что-либо интересное. Скорее всего, больше информации он сегодня здесь не получит. Тем более пора вставать и прощаться.
Октай и Айше тоже встали и вышли в прихожую проводить гостей.
Пока женщины целовались, Октай пожал руку полицейскому и с едва скрываемым удовольствием произносил какие-то обязательные слова об их с Айше готовности помогать следствию…
«Мы с Айше» – зачем он это так подчеркивает? – думала та, о ком он говорил. – Только бы не затеял сейчас выяснения отношений, я этого не вынесу!»
Но, закрыв за Кемалем и Катей дверь, Октай повернулся к Айше и сказал:
– Ай, милая, дай я тебя поцелую. Я уже измучился смотреть на тебя издалека!
Как хорошо было оказаться в его объятиях и ни о чем не говорить! Айше чувствовала, что усталость помешает ей выговорить даже слово, но, к счастью, слова были не нужны.
Только бы он не стал расспрашивать о романе, о ее разговорах с полицейским, о ее планах на завтра! Вообще ни о чем!
И он не расспрашивал.
Уже засыпая, она подумала, что об одном сегодняшнем дне можно было бы написать целый роман. Столько в нем собралось событий, разговоров, переживаний! Впрочем, это уже где-то было… целый роман и один день? Да, конечно, это же «Улисс» Джойса… какая, интересно, «Одиссея» ждет меня завтра? Надо спать, спать, забыть о девушке, полицейском, книгах, о Сибел и Кате, о том, что с утра надо идти к старой Мерием и Софии… Спать! И позвонить брату, посоветоваться, сказать всем всю правду… Лгать так утомительно! Спать… спать!
Голова начала болеть с самого утра. А ведь когда-то она считала мигрени выдумкой избалованных женщин! И не верила, что головная боль может предвещать изменение погоды. И не думала, что от головной боли бывает так плохо, что не хочется ни есть, ни пить, ни лежать, ни спать, ни вообще жить.
Мерием сделала над собой усилие и подошла к зеркалу. Она знала, что ничего хорошего там не увидит, особенно после бессонной ночи. Пятьдесят лет, да что там – пятьдесят два, от себя-то не скроешь! И все они – на лице. По утрам без макияжа она была отвратительна сама себе. Конечно, она никогда не была красавицей, но молодость и свежесть сглаживали неправильность черт и примиряли Мерием со своим отражением. А после сорока ей стала все меньше нравиться ежеутренняя процедура умывания, чистки зубов и приведения в порядок волос. К пятидесяти же выработалась стойкая неприязнь к зеркалу и к себе в нем.
«Наверное, это неизбежно сопровождает процесс старения, и подобные чувства возникают у каждой женщины», – думала одно время Мерием, поскольку была неглупа, весьма образованна и способна на обобщения и отвлеченные рассуждения.
Поэтому, когда однажды она случайно поделилась своими переживаниями с Софией, которую считала почти ровесницей, то реакция соседки неприятно поразила ее и затронула гораздо глубже, чем она могла предвидеть. София засмеялась! И совершенно спокойно сказала, что сама не испытывает ничего подобного, хотя в молодости была почти красавицей. У нее в гостиной даже висел портрет, написанный знакомым художником лет двадцать назад, который подтверждал и то, что это действительно было так, и то, что люди очень меняются с возрастом.