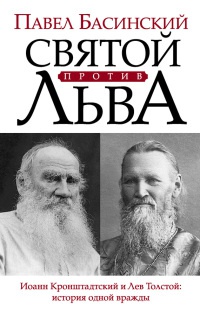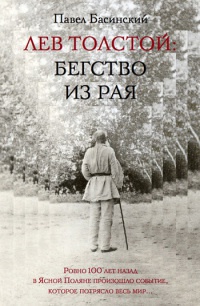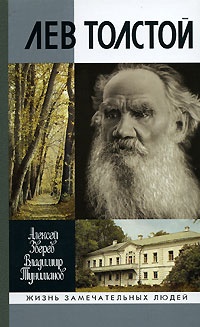Книга Лев в тени Льва - Павел Басинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во-вторых, он впервые встретился с будущим русским императором.
Но сначала о том состоянии, в котором пребывал Лев Львович в это время. Он находился на странном распутье, в котором нет никакого выбора. Одна дорога ясна, но идти по ней не хочется, а другого пути… пока нет.
Он и хочет бросить университет, и не решается на это. Писательская карьера, слабо поддержанная семьей и, прежде всего, отцом, представляется ему зыбкой. Пойти служить во флот, как он подумывал (видимо, больше из любви к путешествиям, чем к морской службе), не вышло.
Но уже замаячила надежда на жизнь помещиком, вдали от родителей, в самарских степях. Об этом он мечтал еще год назад, когда писал матери, отвечая скорее на собственный вопрос: что делать, если не учиться в университете? «Деревня, деревня и деревня. Оттуда надо бомбардировать, а если не можешь, так сидеть смирно и по крайней мере спокоен будешь и больше сделаешь». Что он имел в виду под словом «бомбардировать»? Бороться с несправедливостью, улучшать условия деревенской жизни, заниматься просвещением крестьян…
Это были те же мысли, что толкнули его отца бросить университет и отправиться в Ясную Поляну. И вот в апреле 1891 года Лев Львович де-факто стал помещиком. Ему досталось одно из самарских имений в Бузулукском уезде. И, конечно, как только представилась возможность, он поехал туда осмотреться.
Интересно, что отец, который пренебрежительно относился к учебе в университете первого сына Сергея, чем сильно его обижал, категорически настаивал на том, чтобы третий сын не бросал университет. В апреле 1891 года он писал жене в Москву: «Вчера получил от Лёвы коротенькое письмо. Он бодр, хотя опять жалуется на желудок. Мы с ним говорили про его университет. Он поговаривал, что бросит, и я очень внушаю ему, что это будет вредно, дурной antécédent[15], который ослабит его, что это гигиенически нравственно нехорошо. И с радостью увидал в письме, что он занимается и находит удовольствие в переводе Цицерона, про которого прежде говорил с тоской. Вспомнил о тебе, что ты права, когда говоришь, что он очень легко поддается влиянию и что ему надо говорить, что я и делал. Вообще он хорош. Помогай ему Бог».
Из этого письма можно понять, что проблема Лёвы стояла в семье уже весьма остро. Из живого, смышленого мальчика он на глазах превращался в молодого человека без определенного будущего, а главное – больного, только непонятно – чем. Поэтому отец и не предъявлял ему повышенных требований – пусть уж лучше в университете учится! В то же время он не мог не чувствовать, что это самый духовный из его сыновей. «Ближе всех ко мне после Маши, Лёва… – пишет Толстой Ольге Алексеевне Баршевой и Марье Александровне Шмидт 22 мая 1891 года. – Он идет вперед, живет. Что будет, не знаю, но с ним мне радостно общаться».
Но Лев Львович и сам не знал, что с ним будет. При этом отдавал себе отчет в том, что он слаб. И одновременно грезил каким-то грандиозным будущим.
«Я смотрю на мир не так, как все, – пишет он в дневнике, – кроме того, я вижу всё и понимаю, правда у меня мало силы, внимания меньше, чем у других, у папа́, например, но это вырабатывается, развивается, как мускулы. А если я – не писатель, если у меня нет способностей на это, у меня есть еще гораздо более важное и великое дело. Я отдалил выбор, потому что всё к лучшему на этом свете…»
Но пока всё складывалось далеко не к лучшему. Впервые отправившись в Самарскую губернию уже в качестве помещика, он столкнулся с той же нравственной проблемой, которую безуспешно пытался разрешить его отец.
Письмо матери от 14 июля 1891 года заслуживает того, чтобы привести его почти целиком, потому что здесь впервые слышен голос зрелого Льва Львовича, превратившегося из юноши в мужчину буквально за несколько дней…
«Всё выгорело так, что трудно собрать даже семена. Мужики бедствуют ужасно. Нанимаются работать за бесценок только для того, чтобы не умереть с голоду. В первый раз я вижу такое явление. К Алексею Алексеевичу (Бибикову, соседу-помещику – П. Б.) нанялись рабочие по 1 р. 75 копеек за десятину на его хлеба. В Патровке мужик нанял себе рабочих за 1 р. 25 копеек и пуд за десятину, но еще приплатили хозяину по 15 копеек с человека за хлеб. Стало быть, чтобы работать, они платили, а не им платили. Вообще здесь – не то, что в Туле, – этот год, после ряда голодных годов, совсем пришибет народ. Вчера я говорил с патровскими мужиками и удивлялся их отношению к этому. Они бравируют своим положением и смеются над собой.
– Что ж, – говорят, – вот хлеб уберем, съедим в месяц, а там и издыхать будем.
Григорий Максимович (самарский приказчик – П. Б.) сказал им на это, что правительство поможет им.
– Ну, это, – говорят, – опора плохая, на это нечего надеяться; какие там семена, да еще не всхожие дадут, вовсе без хлеба останешься.
Одним словом, положение здесь очень тяжелое, и утешение только в том, что человек из всякой беды выпутывается, или в том, что пускай, мол, мужики помирают, они всегда только и делают, что умирают, не физически, так духовно.
Так вот, рядом со всем этим, милая мамаша, есть и наше хозяйство. Оно заключается в том, чтобы тянуть с мужика его последние деньги, или скотину, или хлеб за ту землю, которую он у нас арендовал и которая ничего не принесла ему. Григорий Максимович – очень старается покупать так: задерживает в поле хлеб, сено, пока мужик не заплатит деньги, продавши скотину за бесценок. Так что Григорий Максимович – очень хороший приказчик и обещается Вам доставить, если Вы не будете требовать теперь, весной тысяч 8–10. Мужики сымают землю. Пришла пора уборки. Денег у них нет, они платят нам хлебом. Весной мы продаем хлеб за двойную цену, и вот доход удваивается. Урожай нашего посева очень удовлетворителен в сравнении с другими, и он не только окупит расходы, но, может быть, и даст около 1000 рублей. Кроме того, луга и земли сданы за 8, так что, может быть, будет доход. Но всё очень гадательно.
Во-первых, Вы видите, как трудно брать с мужиков последнее, во-вторых, и урожай наш может дать гораздо меньше. Из всего этого, как всегда, я опять заключаю, что хозяйничать нельзя, потому что это сплошной грех, сплошное насилование совести. Я обманываю себя, говорю, что это вовсе всё не так, как мне кажется, мужики врут, клянчат, у них есть, чем заплатить мне, но когда отдаешь себе отчет во всем этом, видишь, насколько ты не прав, и делается совестно.
Вчера я ездил в Бобровку смотреть свои будущие богатства. Отсюда верст 40. Мы приехали к мужику Жданову, одному из наших арендаторов, и пили у него чай. Он рассказывал нам, что они «обессилели» и хотят отказаться от аренды.
Во мне пока сидят двое. Один, попросту сказать, хороший, другой – дурной. Один видит и говорит, что скверно наживать себе состояние, знает, что от трудов праведных не наживешь палат каменных; другой, алчный и довольно энергичный, говорит, что вот выгода в чем, вот, где можно нажить себе денег, и выходит это у него очень соблазнительно и приятно. Эти два господина, несомненно, не любят друг друга. Не знаю, кто победит из них, пока знаю только, что они оба во мне, каждый заявляет свои права…»