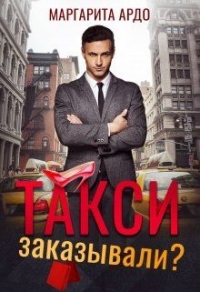Книга Виолончелистка - Михаэль Крюгер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я уселся на холодный металлический парапет у берега, но воды реки были неразличимы в этой темени. Черный Рейн. Может, и Мария сейчас сидит, уставившись в черные воды Дуная, и ее одолевают те же мысли, что и меня. В таком случае что-то должно произойти, и не важно что.
Возвращался я тем же путем, что и пришел сюда. Из-за сгустившегося тумана я ничего не видел, время от времени попадая в лужи, а пару раз даже растянулся, отчего мой элегантный светлый плащ, специально приобретенный для визита в Кёльн, окончательно потерял вид. Завсегдатаи пивнушки, попавшейся мне в Старом городе, приняли меня уж конечно не за молодого композитора, а за себе подобного и посему были настроены весьма дружелюбно.
Вдруг откуда-то из полумрака возникла фигура: высоченный парень с медового цвета длинными волосами, чуточку узкоглазый, который протянул мне руку для приветствия. Крепко пожав мою, он потащил меня за свой столик, заказал «кёльш» и водки и тут же втянул меня в разговор о музыке. Я долго соображал, кто это мог быть. Мой новый знакомый жил в Мюнхене, по его словам, оттуда он меня и знает, неоднократно видел меня на всех этих демонстрациях, акциях и дискуссиях, сегодня он побывал на моем концерте, а после они с друзьями прошлись по пивным, а уже потом он, отделившись от компании, потащился сюда, в Старый город.
С подкупающей искренностью и непринужденностью он перечислил все оскорбления в адрес моих произведений, которые ему довелось сегодня выслушать от других. Все в точности соответствовало моим прогнозам, и все же я был шокирован и возмущен. Выяснилось, что на моей стороне никого, даже музыканты, благодаря мне имевшие возможность сыграть на премьере, и те показали себя в столь невыгодном свете, и те не поддержали меня.
— Тебе с твоей музыкой, — заключил Грюцмахер — именно так звали моего собеседника, — далеко не уехать. Пойми, ты и не элитарный, и не попса, — вразумлял он меня, — у тебя нет ни настоящих сторонников, ни убежденных противников, ты не из левых и в то же время уж явно не из аристократов, твоя позиция скорее чистое упрямство, чем активная оборона, ты не способен ни изолировать себя от них, ни интегрироваться в них. Но самое плохое то, что о твоей музыке даже не поспоришь! То есть с тобой нельзя примириться после всех нанесенных тебе оскорблений. А те, кто после снесенных оскорблений не предпринимают никаких шагов к примирению, идут явно вразрез с чувством меры, тем самым, которое и служит регулятором человеческих отношений. Усек?
То, что ты делаешь, ничего не дает, таково дружеское резюме. Сам он давно покончил с современной музыкой, спаялся с рок-музыкантами, потрясающими ребятами, как он выразился, у него в Мюнхене собственная студия и он работает для Южнонемецкого радио в Штутгарте, пишет для них музыку к телесериалам, в которых снимаются однорукие типы вроде моего соседа и которые так обожает смотреть фрау Кёлер. И тут у меня в руках оказалась его визитная карточка — студия звукозаписи располагалась в Грюнвальде, жил он этажом выше в том же доме.
— Ты должен ко мне зайти, — настаивал Грюцмахер, — и я все тебе покажу и расскажу. У меня ты сможешь заработать настоящие бабки, причем не перетягиваясь и безо всяких переживаний.
Мы выпили еще по кружке «кёльша», и Грюцмахер, взъерошив свою медовую гриву, извлек из кармана пиджака стомарковую банкноту и отказался от сдачи.
По пути к отелю я попытался объяснить далекой и недосягаемой Марии, что совершил акт предательства по отношению к моему искусству, но та, которая больше не желала исполнять мои вокалы, и слушать меня не стала.
Брезгливо оглядев мой изгаженный макинтош, ночной портье потребовал от меня назвать себя и только потом вручил мне ключ от номера.
— Спокойной ночи, — пожелал я ему, уже стоя в лифте, однако портье ничего не ответил.
В ту ночь меня не баловали ответами.
Временами на меня нападает неудержимая страсть к воспоминаниям, в прямом смысле неудержимая. Я отчаянно пытаюсь припомнить лица, фамилии, имена, обстановку гостиничных номеров, разговоры. В голове моей разрастается опухоль воспоминаний, норовящая вновь коснуться всех и каждого, прежде чем окончательно стереть их. Но воспоминания эти неотчетливы, размыты, далеки.
Сараево. Пьер Файе исполнял произведения Шарля Ива. Где же это было? В облицованном деревом зале Национальной библиотеки или же в зале мэрии? Вступительное слово произнес поэт, имя его было Анте или Антон, пожилой человек, вышедший к публике в изрядном подпитии, который, решительно и могуче распахнув кулисы риторики, жестикулируя, рассказывал о партизанах, об их героической борьбе, позволившей нам всем собраться здесь и слушать музыку раннего периода авангарда. И вдруг человек этот запел! Звучным голосом он спел нам песню о партизанах, и мы увидели перед собой молодого парня из уже минувшей жизни, готовившегося дать отпор атаковавшему врагу. Но старик есть старик, и лишь невероятным усилием воли он смог допеть до конца растрогавшую его песню своей молодости. Со слезами на глазах раскланялся он перед музыкантами, которые, оцепенев от охватившего их смущения, намертво вцепились в свои инструменты. Потом он сошел со сцены, и его сразу же окружила публика, словно диковинного дрессированного зверя в цирке. И вспоминая о том, как все эти ценители искусства, по сути, спешили отделаться от одетого в несуразный мешковатый костюм престарелого партизана, я вспоминаю и о том, как с бьющимся сердцем сидел на стуле, кипя от негодования, не находя себе места от вопиющей нелепости, несуразности происходящего. Сбивчиво и непонятно я все же сумел убедить Марию, что мне необходимо уйти. И ушел, а она оставалась в зале. Наверное, из чувства долга по отношению к искусству.
Я ушел.
Пытаюсь в точности припомнить, как уходил из зала, потому что хорошо помню, что мой жест не мог остаться незамеченным и даже вызвал некоторое недоумение. Люди не могли взять в толк, из-за чего я все-таки решил убраться: то ли из нежелания видеть этого полупьяного Анте-Антона, то ли по причине размолвки с Марией, которая приподнялась было с места, когда я уже приоткрыл массивную дверь, раздраженно крикнула мне что-то вслед и снова уселась.
Записная книжка! Куда подевалась записная книжка в обложке из красной искусственной кожи, презент Марии, куда я записывал то, о чем не имел права забыть. Туда я записал адрес и телефон того самого Анте-Антона, как сейчас помню, на левой странице сверху. Потому что едва я вышел из филармонии или же из зала Национальной библиотеки, где шел концерт, передо мной возникла странно колышущаяся фигура исполнителя партизанских песен. Темпераментно размахивая руками, Анте-Антон вел оживленную дискуссию с самим собой. Помню, что представился ему, и мы тут же отправились в какую-то шашлычную и, изъясняясь сразу на нескольких языках, каким-то образом разговорились за водкой и дымящимся ароматным мясом на вертелах.
Он поведал мне всю свою жизнь, каждая фраза — мемориальная доска, с которой постепенно буква за буквой опадал прежний текст, уступая место новому, доступному лишь добросовестному исследователю глубин памяти: Москва, Ленинская премия, Куба, Крым, Тито, ГДР, его и так уже ослабевшая, подточенная спиртным память через неравномерные интервалы выдавала слова, которые он заплетающимся языком доносил до меня.