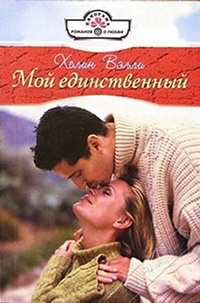Книга Крыса-любовь - Мойя Сойер-Джонс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шестое апреля 1986 года началось очень даже хорошо. Была суббота, и я уверена, что ночью папа с мамой занимались любовью (хотя мне ни разу не хватило смелости спросить об этом). Дверь их спальни была заперта, когда я проснулась, и, помнится, они много смеялись в ванной, а потом в триумфальном единении жарили оладьи. Дом бурлил радостью жизни.
В тот день папа должен был провести последнюю репетицию «Доктора и графини». На кухне мы подпевали Барбре Стрейзанд (песенкам из «Смешной девчонки»). Папа ловко подбрасывал оладьи, переворачивая их на сковородке, а мама трудилась над париком графини — расправляла тугие локоны, которые закрутила накануне, встряхивала их, закалывала и прыскала сладко пахнущим, стойким лаком.
Это была одна из ее последних работ в качестве художника по костюмам и декоратора. Поверх гардин в гостиной висели наряды, над которыми мама корпела неделями: фрак доктора, белый передник и шапочка сиделки, длинное красное платье графини с кружевным корсажем и атласным шлейфом — для сцены на балу. Мама во всем стремилась к совершенству. К костюму графини прилагались атласные перчатки, ридикюль и перья для прически — все в тон. Если б мама сумела заставить папу выбить побольше денег на постановку, графиня заполучила бы атласное нижнее белье ручной работы.
— Ну что это такое? — сетовала мама. — Где это видано, чтобы усопшая графиня лежала в нейлоновых трусах?
Мамины работы из других постановок тоже были выставлены у нас дома. Кожаные шортики с нарисованными белыми ремешками (из «Звуков музыки») красовались в рамочке над пианино. Дамский зонтик, весь в кружевах, с фиалками (из «Пигмалиона»), покачивался над моей кроватью. Разноцветные бумажные фонарики (из «Микадо») протянулись вдоль веранды. Под потолком в гостиной вертелся зеркальный шар (из «Чикаго»).
Репетиция только началась, когда мама выскользнула из театра, чтобы одолжить старый граммофон, который углядела в витрине какого-то бутика (как штрих для жилья доктора). Но, когда она вернулась, радостно прижимая к груди здоровенный агрегат с медным рогом, все уже было кончено. Мама увидела, как папу вывозят со сцены на больничной каталке, и не поверила своим глазам. В прямом смысле. Поэтому она закрыла глаза, досчитала до десяти и открыла их снова.
Папа все еще лежал на каталке, такой же мертвый, как раньше. Ничего не изменилось. Поэтому мама сделала единственное, что пришло ей в голову. Снова закрыла глаза и досчитала до двадцати. Все еще мертв? Тридцать? Сорок? Пятьдесят?
В следующие несколько лет мамины глаза гораздо чаще бывали закрыты, чем открыты. Она открывала их лишь при крайней необходимости, и поразительно, сколько всего она умудрялась сделать вслепую.
Похороны она простояла с закрытыми глазами. Позже на ощупь и на запах разобрала папину одежду, молча вынимая одну рубашку за другой и складывая их в картонные коробки, а затем так же ощупью спустилась по лестнице и загрузила коробки в машину. Когда она дошла до папиного старого кожаного пиджака, однобортного, в стиле битников, то сунула пальцы в каждый карман, прощупывая линялую шелковую подкладку, словно выискивала следы папиного присутствия: старый фантик от мятной конфеты, корешок билета, чистый платок, сложенный как новый. Затем она просунула руку в рукав, на секунду будто бы натянула папину оболочку, а потом и этот пиджак отправила в коробку.
Однако попадались и предметы, на которые ей приходилось смотреть. Хотя бы время от времени. Например, собственная дочь.
— Мам, я доделала уроки, — говорила я. — Мам? Ты что, спишь?
Мне было одиннадцать лет.
— Разумеется, нет.
— А кажется, что спишь.
— Я ведь сижу на стуле, верно?
Что верно, то верно. Она сидела перед телевизором, держа на коленях упаковку размороженного картофеля фри и магазинного цыпленка-гриль в фольге. Телевизор работал, но звук был отключен.
— И я отвечаю тебе, Джули, верно?
— Да.
— И между прочим, обедаю. Так в чем проблема?
— У тебя глаза закрыты, мам.
— Ну и что?
— Ты не видишь меня с закрытыми глазами.
— Еще как вижу. Мне так даже лучше видно. Как у тебя блестят волосы… Ты вымыла голову?
Мама частенько говорила что-то в таком духе, чтобы сбить меня с толку. Она не могла меня видеть, и я это понимала. Она просто слышала запах шампуня.
— Тогда скажи, что на мне надето? — спрашивала я.
— Я очень устала, Джули. Очень устала.
— Какого цвета моя одежда?
Если же я слишком наседала на нее, мама захлопывала рот так же плотно, как глаза, и достучаться до нее было невозможно. В глубине души я знала: все мои усилия бесполезны. Даже когда мама открывала глаза и смотрела прямо на меня (такое иногда случалось) — она меня все равно не видела. Она говорила со мной; я отвечала. Но в ее глазах, закрытых или открытых, моего отражения не было.
— Думаешь, у нее просветление наоборот? — уточнил Хэл. — По-твоему, она выходит из подполья? Решила сказать — мол, я прикидывалась чуть не двадцать лет, и баста? Я чокнутая и горжусь этим?
Домой из больницы я вернулась поздно, далеко за полночь. Хэл в шортах сидел за кухонным столом и уплетал яичницу с беконом. На отсутствие аппетита он никогда не жаловался.
— Ты разве не ужинал в ресторане? — Я протянула мужу салфетку.
— Ужинал. Пришлось вести клиента в «Сад императора». Заказали классную штуковину с чили и мидиями. Пальчики оближешь.
Его вилка с очередной порцией яичницы описала в воздухе дугу — и длинный потек желтка украсил грудь и шорты. (Замочить в холодной воде, потом стирать хозяйственным мылом.) Как я уже говорила, Хэл ест по-свински.
— Но ты же знаешь эту китайскую еду — проскакивает моментально. Я снова умираю с голоду. — Хэл выпрямился и перевел дух. — Ну? Что сказал врач?
— Если приступы паники прекратятся, ее выпишут завтра. Но последствия непредсказуемы.
Я опустилась на пол рядом с ним и поискала местечко помягче, чтобы пристроить голову, но Хэл снова начал заглатывать еду, поэтому мне пришлось выбирать между крошками хлеба, яичным желтком и потной грудью. Я свернулась полусидя-полулежа и припала щекой к его бедру.
— А вдруг все затянется и маме нужен будет присмотр? — спросила я. — Кроме меня ведь некому это делать.
Сквозь густую темную поросль на ноге Хэла я смотрела на свое отражение в зеркальной дверце кухонного шкафчика напротив нас. Странное дело — я видела, как шевелятся мои губы, но женщина в зеркале совершенно на меня не походила. Будто кто-то абсолютно другой. Я даже не была уверена, что доносившийся до меня голос — мой собственный.
— Вот в таких случаях и начинаешь ценить братьев и сестер, — сказал Хэл. — Обычно от них толку как от козла молока, но, когда предки сдают, они оказываются очень кстати.
У Хэла было трое братьев. Все их родственные отношения сводились к регулярным встречам, где обсуждался единственный вопрос: что делать, если предки доживут до глубокой старости. А родители именно так, вопреки всем ожиданиям (и финансовым прогнозам), похоже, и собирались поступить.