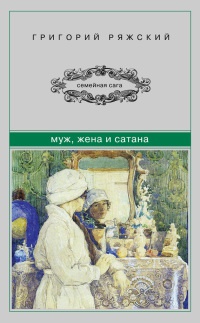Книга Новый американец - Григорий Рыскин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шимон-разведчик рассекает толпу вальяжным телом:
– Семья Гамарник, войдите.
Щелкает ключом. Ожидание. Час, второй.
– Это трагедия, трагедия еврейского народа, – говорит виолончелист из Киева. – Зачем они едут, куда?
– Это, наверно, потому, что мы не едем в Израиль, – говорит осанистый одессит, – но все равно нужно обращаться по-человечески.
– Э-э-э… Всем надо в Израиль…
– Вот и езжайте.
– Я бы поехал, но у меня в Америке сын.
– Езжайте в Израиль, потом приедет сын.
– Э-э-э… Вот если бы так было: с самого начала едут в Израиль.
Что вы хотите, они правильно делают, что обращаются с нами так. Мы предатели еврейского народа.
– Какие предатели! – возмущается осанистый. – Я воевал, прошел от Ленинграда до Берлина. Орденоносец. Не будь таких, не было бы Израиля.
– Послушайте, о чем они говорят битых два часа? О чем можно говорить два часа?
– Ну, он разведчик. У него своя работа. Ви знаете, что такое израильская разведка?
Наконец-то Шимон выпускает Гамарников.
– Послушайте, – взрывается фронтовик, – когда прекратится это безобразие? Здесь старики, дети.
Разведчик отвечает не сразу. Разведчик взвешивает каждое слово:
– Послушайте, не людям из Советского Союза учить меня. Я вас сюда звал? Скажите, кто вас сюда звал?[12]
Фронтовик белеет с лица.
4
Прогуливаясь после полуночи по Кертнерштрассе, я увидел немыслимую фигуру десантника неведомой страны. Он был в зеленой лягушачьей униформе, в солдатских шнурованных бутсах. Головой десантник сшибал мартовские сосульки. Он вел на поводке толстенького фокстерьера и нежно беседовал с ним.
– Даже в Вене спасу нет от этих фрайеров из «Сайгона», – сказал вместо приветствия Амбарцумов. Это был, конечно, он. – Хоть на Ринге «Сайгон» открывай.
– Ничего не получится, публика не та. Ты только посмотри, кто едет.
Мы вышли на Ринг. У подъезда стоял румяный полицейский в золотых очках, похожий на кандидата наук.
– С тобой-то наверняка все хорошо, Амбарцумов, тебя вон классик в аэропорту лобызал.
– Иуда тоже Христа лобызал. Знаешь, сколько они платят за рассказ? Пообедать с дамой не хватит. На пару пива с бутербродами. А моя Ленка в Квинсе только за квартиру триста выкладывает.
– Тебе хорошо, тебя ждут.
– Может, заборы красить придется.
– С таким скелетом, как у тебя?
– А может, продать скелет в анатомический театр?
Мы шли по туманному Рингу. Громадные вязы были в сосульках и звенели. Я всегда видел его в обществе карликов и уродов. Вот и мне выпало при нем играть эту роль.
На другой день Амбарцумов читал свои рассказы в венской штаб-квартире эмигрантского издательства. Публика была разномастная. Тут был философ из Ленинграда, уголовник из Черновцов, широко представлен был щелкопер. Тут был ленинградский диссидент Севрюга, человек с решительным монгольским лицом. Его проломленный когда-то череп походил на разбитое страусиное яйцо. Тут был поношенный лысый писатель с грустными глазами алкаша, писавший исключительно матерщиной. Тут была дама-музыковед с фанатичным блеском в антрацитовых глазах. Она только что переправила на Запад трактат о гомосексуализме Чайковского.
Иные шустрые личности пришли просто чайком побаловаться, бутербродик перехватить. Их изготовлял представитель издательства, человек с мягкой улыбкой, заросший спиральными кудрями, похожий на черный одуванчик. Иные ловкачи все намеревались позвонить на халяву в Париж, Нью-Йорк, Тель-Авив. Но телефонный диск был крепко прихвачен тяжеленьким стальным замком.
Амбарцумов читал артистично, без нажима. У него был красивый баритон. Его фраза была, как текинская лошадь, ни унции жира, только мышцы и кости. Особенно хороши были диалоги. Ироничные, парадоксальные. Амбарцумов ничего не выдумывал. Все его прототипы были мне хорошо знакомы. Но то была все-таки живопись, а не фотография. Этот бархатистый карточный валет с глазами цвета конского каштана был Писатель. И с этим ничего нельзя было поделать.
Потом мы шли по мосту над мелководной речушкой. Амбарцумов с Севрюгой, я – с приотставшей толпой. Севрюга подбивал Амбарцумова на выпивку:
– У меня водяры на любой вкус, под икорку…
– Понимаешь, зашитый я.
– Обижаешь, – не унимался Севрюга.
Теперь у Амбарцумова был новый буффон, и он во мне не нуждался.
* * *
По приезде в Нью-Йорк я тотчас явился к старику Чарских[13]. Его кабинет напоминал выставку подарков. Тут была хохломская балалайка, льняные полотенца с петухами, граненый тульский самовар. Дары третьей волны. Он сидел в вольтеровском кресле за широким столом красного дерева, под портретом царя-мученика, чистый, промытый, моложавый, как будто только что набальзамированный. Вычитывал по мокрой полосе свою статьюшку, разглядывал каждую буковку сквозь тяжелую лупу с советским знаком качества. Когда старик Чарских отдал полосу секретарю, под ней обнаружилась палехская шкатулка, приспособленная для сигар. По черному фону скакал Василий Иванович в бурой бурке на белом коне.
С приходом третьей волны косяком потянулся к старикашке страждущий щелкопер. Но было непонятно, почему Чарских зачислил в штат гнилозубую, бесцветную, как моль, Риту Штоль, писавшую как провинциальная гимназистка, и отказал крепкому профессиональному Поляковскому[14], члену ССП, автору пятнадцати книг.
Поначалу мне думалось так: я попадаю на свободный рынок труда. Будет буря, мы покажем острие своей шашки. Но до этого даже не дошло. Шахматная доска оказалась такой тесной, на ней толпилось так много фигур, что для правил просто не хватило места. Конь прыгал по прямой, как слон. Ладья выписывала буквы «г». Ферзь выполнял функции пешки, а пешка стала королем. Старик Чарских мне сказал:
– Ступайте-ка учиться на автомеханика, молодой человек. И пишите в нашу газету. Писать нужно не для заработка, а из любви.
После того как он мне отказал, я навострился на радиостанцию «Вольность». Там сидели какие-то невнятные личности. Никто из них за целую жизнь не написал ни единой статьи. Когда я пришел наниматься, дали читануть текст. Потом меня принял человек с желтыми львиными глазами, рыжей гривой до плеч и таким широким носом, что уж совершенно был похож на льва. При этом он не разговаривал, а булькал и сипел, как самовар. У льва была вырвана трахея, на месте которой открывалась кровавая влажная дыра, через нее он и дышал.