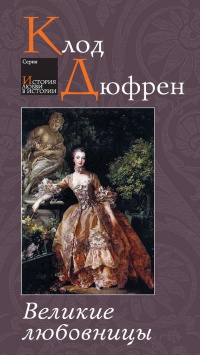Книга Дикие пчелы - Иван Басаргин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вспомнила Груня ласковые мамины руки, сухие губы и вечную тоску в глазах. Но мешает вспоминать своим стоном Пелагея-чайка. Кружит над просторным морем. Могила у Пелагеи – все море. И ни креста, и ни холмика. Записал в судовом журнале капитан долготу и широту, где похоронили Пелагею, – вот тебе могила и памятник надгробный.
– А в море холодно? – спросила отца Груня.
– Кака там разница, в земле тожить не тепло. Могила – чего же еще говорить. Ради твоего счастья поехали. Нам уж немного надо. Может, хоть ты поживешь по-людски, – вздохнул Терентий.
– Зачем мне такое счастье, ежели мама умерла? Без мамы не может быть и счастья. Все боишься, что нет у меня приданого? Без него бы вышла замуж. А здесь что ты мне дашь в приданое, землю, чтобы схоронить меня? Да? Так вона и море всех примет.
– Не дури! Не зови беду, – перекрестился Терентий. – И в кого ты такая удалась? Поперешная, а тонка как тростиночка. А мужику сильная баба нужна, чтобы при теле, дородная, чтобы при случае плуг тянула заместо кобылы аль борону волочила. Но ничего, на своей земле я тебя откормлю – будешь девка что надыть. Любой мужик позарится.
– Зря поехали. Могла бы я в город уйти, там парни за толстыми не гоняются. Была бы душевность.
Груня поднялась с котомки, неуверенно шагнула на палубе. Под дырявым зипуном и латаным сарафаном угадывалась стройность тела. Даже лапти не смогли скрыть ее маленькую, точеную ножку. На голове черный платок, как у старухи или монахини, повязанный наглухо, по самые глаза. А глаза, чистые, тревожные, как у испуганной оленухи, смотрели на волны. С такой же просинью, с прозеленью, как и море. Груня остановилась у лееров. Сквозь изморось и штормовой туман виделось ей, как мать, собираясь в дорогу, надсадно кашляла, засовывала в мешки нехитрую посуду, в деревянные сундуки-постель и одежду. Кричала:
– Фекла, а Фекла, возьми вона крынку, потом когда-никогда помянешь за упокой души!
Бабы говорили Терентию:
– Не трекался бы ты с места, старик. Не сдюжит твоя стара дальней дороги. Шутка ли – ехать в конец света!
– Сдюжит. Хватит нам ходить в батраках. Всю жизнь на чужой земле спину гнем, хочется своей земли. Хоть разок просеять ее сквозь пальцы.
– Умрет Пелагея. Грудная у нее болесть. Кровями харкает.
– Казенный кошт обещали. Груньку надыть замуж отдавать. Поедем. Там мы должны зажить славно. Четыреста рублев коштовых и дорога бесплатная. Таких денег я за всю жизнь не держал в руках. Поедем. Чего уж там. Где умирать, как умирать – дело второе.
И поехали. Чугунка… Вонючие вагоны, ветер во все щели. Люди спят вповалку на нарах и на полу. Умирали старики, дети, парни и девушки, даже мужики. Но Пелагея держалась. Хотя с каждым днем все больше и больше слабела. Но все же хватило сил проехать Сибирь вольную, Приамурье, добраться до конца земли. Увидеть море. А потом проплыть на пароходе. И вот пароход тряхнуло на боковой волне, Пелагея сильно качнулась, ничком упала на дощатую палубу, и душа вон! Покойник в море! Мужики бросились к капитану, просили причалить к берегу, чтобы похоронить усопшую по-христиански.
Капитан устало посмотрел на мужиков, усмехнулся и сказал:
– Судно – не шлюпка. Да и честь тому, кто почил в море. Морячкой будет. Эх вы, странники неуемные, бедолаги!
– Нельзя в воду. Вода – это богородицыны глаза. Грех!
– Безгрешное это дело. Да и пусть глаза этой старой шлюхи посмотрят еще раз, как мыкается люд русский. И все потому, что нет порядка на земле. Порядок на море. Хоронить по морскому обычаю! – приказал капитан.
Матросы умело завернули труп в парусину, уложили на доску, привязали к ногам прогоревший колосник из топки котла, плюгавый попик прочитал заупокойную молитву, благословил рабу божию на райское житие, махнул рукой – и тело скользнуло по доске в море, в кипень волн. И над морем, это видела Груня, видели моряки, тут же закружила белая чайка…
Одно видение проходило, тут же подкатывалось другое. Мучил озноб, тошнота. Вернулась к отцу, отец грубовато, по-мужицки, привлек ее к себе, сказал:
– Не печалься, ей уже все едино. Все мы будем там, но не в одно время, – махнул он рукой в небо. – Надо думать, как живые, о живом. Земли дадут, коней купим, одену тебя в шелка… Одни остались, теперь надо держаться друг за друга. На бога надейся, но сам не плошай. Вдвоем мы перевернем энту землю. Эко сколько ее пустошной-то. Будем надеяться только на себя.
Из трюма вылез долговязый и по-мальчишески угловатый Федька Козин. Он ехал с Груней в одном вагоне. Там он был шустр, весел, а сейчас еле добрался до борта, рыгал и стонал:
– Ой, моченьки нету! Все нутро вывернуло!
– Иди сюда. Здесь тепло у трубы-то, и на ветру тебе полегчает, – позвала Груня.
Федька дополз до трубы, из которой клубами валил дым, калачиком свернулся у ног девушки, будто задремал. Груня тонкими пальцами перебирала его кудряшки, жалеючи ласкала. «А чего же не пожалеть, ведь вместе всю землю расейскую проехали».
В скулу парохода ударила тугая волна, обняла старый пароход, подержала его в сильных объятиях и отпустила, укатилась к берегу.
Из каюты вышел рослый, чисто одетый мужчина, похожий на купца. В глазах суровинка, между бровей упрямая складка. Уперся крепкими ногами в палубу, долго смотрел на излохмаченный волнами горизонт, на чаек. Потянулся до хруста в суставах, скосил темные глаза на Груню, тряхнул густой шевелюрой, чуть с рыжинкой, чему-то усмехнулся. Он давно приметил эту нищенку-девчонку. Да и она часто посматривала на него. Наступая на ноги и руки тех, кто лежал на палубе, уверенно подошел к Груне, наклонился, дохнул спиртным перегаром, взял за подбородок, сказал:
– Горюешь, девка? Не горюй. Мать уже не вернешь из моря. Пошли со мной в каюту! Не пожалеешь. – Легко оторвал Груню от палубы и поставил на ноги.
Груня вспыхнула, оттолкнула от себя обидчика, зло бросила:
– Не продажная я! – Опалила глазищами купца.
– И все же пошли. «Когда б имел златые горы и реки полные вина…» – пропел купец. – Пошли.
– Пошла бы, да упряжь не в коня! – бросила Груня и смерила презрительным взглядом мужчину.
– А мы подберем упряжь. Да! Одеть бы тебя в шелка, в сатины – княгиня! Черт! Пошли, озолочу, или я не Безродный! – Он попытался обнять Груню, но звонкая пощечина отбросила его назад. – Вот чертовка! Вот шалая. Сам шалый и люблю шалых.
Покачиваясь от морской болезни, поднялся Федька, чтобы защитить Груню.
– Не трогай девку, ну! – сипло выдавил он.
– Сидел бы ты, сморчок, – усмехнулся Безродный и сильно толкнул его в грудь.
Федька упал на палубу и растянулся пластом. Не укачай его море, он бы показал свою силу обидчику. Между пальцами гнул пятаки. Но сейчас он был слаб, как ребенок.
– Ах ты мурло! – раздался позади голос Калины Козина, Федькиного отца. Он тоже вышел на палубу, чтобы отдышаться от вони трюмной. – Наших бить? Ишь растрескал харю – жиром лоснится. – Калина, набычась, подошел к Безродному и сильно ударил его в грудь. Тот охнул и отлетел на добрых две сажени, кувыркаясь через людей. – Вот так-то, господин хороший. Охолонь, говорю. Ишь, нашел моду детей забижать. Укорочу руки-то!