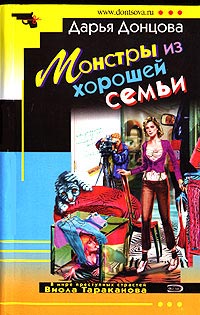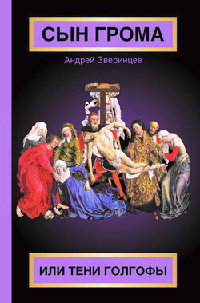Книга Книга Бекерсона - Герхард Келлинг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В какой-то момент в лесу он определил себе мишень с помощью вытянутых рук, взял на мушку воображаемый объект, медленно опустил переплетенные ладони и вдруг краешком глаза почувствовал, что за ним кто-то наблюдает, свидетель… Широко расставив ноги, он, Левинсон, стоял как вкопанный на лесной тропе, обеими руками обозначая воображаемую мишень, что со стороны не могло не показаться странным. Почувствовав на себе отсутствующий и в то же время пристальный взгляд, он медленно протянул руки в сторону свидетеля, после чего тот немедленно отвернулся и исчез. Позже он задавался вопросом, имел ли этот парень отношение к тем самым, и лишь досадовал на себя, что не рассмотрел его внимательно, из-за чего его внешность запомнилась только в самых общих чертах.
В тот вечер он впервые снова отправился к ней. Он не воспользовался своим ключом, а нажал на звонок. Открыв ему дверь, Лючия лишь молча посмотрела на него. Он закрыл за собой дверь и обнял ее, но она никак не проявляла радости. Потом они прошли в комнату, где он снова завел свою старую пластинку, пытаясь объяснить, что его надо принимать таким, каков он есть, снова старался объяснить ей, как устроен, вместе с тем пытаясь избегать сути дела и снова впадая в какой-то объяснительный дурман, ни словом не упоминая Бекерсона и тем более полученный им пистолет. Лючия внимательно слушала, пытаясь его понять, поскольку ему этого искренне хотелось, однако он остро ощущал, что его слова не доходят до ее сознания. Уйдя в себя, она совсем замкнулась — без сомнения, любящая его женщина, привязанная к нему, готовая следовать за ним и поэтому судорожно вцепившаяся в него, а он не мог отделаться от подозрения, что у нее в мыслях кто-то другой, что она ищет кого-то иного, что он ручается лишь за то, что ему неизвестно.
Итак, все говорило за то, что ему пора решиться покончить со всей этой историей, о чем ей и сообщил: откровенно, прямо в глаза заявил об этом, поведал о своем решении в тот же миг, в какой его принял. Пока он излагал свои взгляды (в переживаемый им момент триумфа и высокомерия), ее связь с ним при всей представленной им незначительности и ограниченности снова показалась ему ценной, только в иной, новой плоскости. Она открылась ему. И это ощущение внезапно согрело его душу: ее манера слушать, ее деликатность. Под этим впечатлением он потянулся к Лючии душой, дотронулся до нее, приблизил к себе эту молодую, весьма привлекательную, только очень бледную женщину с залитым слезами лицом (слезы так и стояли в ее глазах).
Он наслаждался ее плотью, которая от возбуждения потянулась к нему и растворилась в нем, плотью, которой управляла только одна страсть и которую пронзало только одно желание. Он обожал пряди ее волос, ее чуточку соленые слезы, бархатную белую и смуглую кожу, пропитанную ароматом водорослей.
На фоне только прозвучавшего заявления о прощании он снова полюбил ее тело впервые и навсегда.
Правда, потом, прощаясь в прихожей, она спросила, зачем ему это оружие. Пораженный, он посмотрел на нее и спросил, откуда ей это известно… Просто она это почувствовала, уверенная в том, что он не станет ничего от нее скрывать. Кроме того, куртка показалась ей очень тяжелой, когда она ее вешала. Тогда-то она и заметила пистолет. Потом они стояли в прихожей, и он досадовал на свои промахи — тяжелый пистолет явно заваливался вбок. Он ожидал от нее каких-то слов, упреков. Но она только смотрела на него, но все же проговорила: если считаешь, что тебе это надо… а перед самым уходом поцеловала его — единственная соленая слеза сбежала на его губу — и еще раз обняла, спросив: ты ведь снова придешь? После этого он ушел. Потом действительно снова появлялся у нее и по ее желанию оставался на ночь, как в начале их знакомства. Но в основном поднимался рано утром и уходил, так как иногда она казалась ему такой чужой, что ему не хотелось больше к ней прикасаться. Она оставалась девушкой, которая без колебаний ложилась с ним в постель, как прежде, наверное, со многими другими, но которая странным образом при этом имела в виду его, которая (этакое диковинное существо!) отдавалась ему, не требуя взамен ничего, кроме его плоти, которая в любой момент хотела бы о себе напоминать и несчастье которой заключалось лишь в том, что он давно уже в каждом шаге усматривал тайные намерения. А может, она, этот дар небесный, тоже была подарком от них? А может, была таковым даже тогда, когда те самые — Бекерсон — не имели к ней ни малейшего отношения?
Как он мог это знать, он, без остатка растворившийся в том, что называл своим новым существованием, по сути дела, жизнью взаймы. А она по этому поводу однажды заметила: не надо мне ничего рассказывать, меня это нисколько не волнует. Поэтому ему вдруг подумалось: я с таким же успехом мог бы замараться криминалом, ей на это начихать, и вслед за этим: а может, это уже произошло? Таким образом, по его мнению, она стала представителем тех, иных. Хотя он знал, что в отношении нее поступил несправедливо, эта мысль настолько глубоко врезалась в его сознание, что вскоре он стал воспринимать ее негативно, словно она представляла противную сторону. Раздражительная иллюзия: она, которая была к нему ближе всего, оставалась для него лишь иной стороной, словно существовали чудесное слияние или общий гротескный тайный заговор — все это причастность к иной стороне.
Он все активнее давил на нее, требуя каких-то умопомрачительных приемов, а когда однажды спросил, нравится ли ей все это, Лючия только покачала головой. Он же погружался в глубины сладострастия, которое, собственно говоря, дарило не блаженство, а всего лишь изнеможение. Он все чаще покидал ее без серьезных на то оснований, главным образом во имя того, чтобы принять решение, а потом доказывать его правильность самому себе и ей. Фактически тогда он мог обращаться с ней как хотел. Свою неуступчивость она проявляла только в одном — в дальнейшей судьбе их связи как таковой; за ее продолжение Лючия цеплялась с удивительной, прямо-таки животной хваткой. Чем активнее он отталкивал ее от себя, тем крепче становилась хватка, что в результате породило в нем какую-то странную необъяснимую ярость, которую он опять-таки изливал на нее.
Она стала дарить ему всякую всячину — то ручку, то античные стаканы, то шарф. Ему бросилось в глаза, как она распоряжается средствами. И он задал самому себе вопрос: откуда у нее деньги?
Может, все это оплачено ими? Он стал за ней шпионить, проверял сумочку, всячески контролировал, но все безрезультатно. Он был к ней холоден и жесток, высокомерен и мелочен, но она проявляла выдержку, находя всему свое объяснение. Очевидно, речь шла об истинной любви, как он истолковал данный случай самому себе: она любит меня, проговорил он с ухмылкой перед зеркалом, не веря в это ни секунды. Просто он абсолютно точно знал, что все это борьба, ее готовность отдаваться ему — стратегия, ее терпение в отношениях с ним — тактика, ее покорность — стремление привязать его к себе, приучить, завладеть им и удержать. И чем острее он это осознавал, тем сильнее было отвращение к ней. Так, например, он совершенно логично доказывал ей невозможность их любви, поскольку она его совсем не знала, не имея понятия, кто он такой, да он и сам в общем-то этого не знал, а также внушал ей всякие прочие банальные вещи, которые впоследствии внушали страх ему самому.