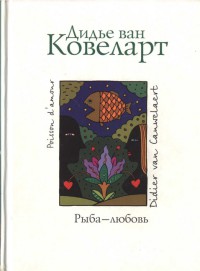Книга Чужая шкура - Дидье ван Ковелер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Здравствуйте, мсье Ланберг, — бросает он в приоткрытое окошечко, не отрывая взгляда от экранов видеонаблюдения.
Я молча киваю — в горле пересохло. Как же мне изменить свою внешность? В нашей мельнице, нашпигованной камерами безопасности, мой маскарад вряд ли останется незамеченным.
В ванной я раздеваюсь до пояса и разглядываю себя со всех сторон в зеркалах, что висят по бокам. Взъерошил себе волосы, потом опять зачесал, но на другую сторону. Сбросил прядь на лоб, откинул назад. Все равно это я, безнадежно я. И ничего тут не поделаешь, какие рожи ни корчи, я не в силах изменить свою усталую и унылую физиономию. Нет, я прекрасно знаю, что надо делать. Но не решаюсь. Еще не созрел для развода. Соблазн разделить одно тело на двоих так велик, что я чуть не забыл о последствиях: сбрив усы ради Ришара, я потеряю Фредерика. Хуже того, позволю окружающим трактовать по своему усмотрению полученный результат, удачным он будет или смехотворным, но они воспримут его с чисто внешней стороны. Ланберг побрился. Верно, хочет отвлечься, перевернуть страницу, начать новую жизнь, казаться моложе, раз он теперь свободен.
Нет.
Если я сбрею усы, я просто ликвидирую и саму жизнь по эту сторону улицы. Уйду из жюри «Интер-алье», не буду появляться в газете, больше не увижу ни Эли, ни малыша Констана, ни Этьена Романьяна… Откажусь от квартиры. Вывезу вещи Доминик на склад, отдам кота и начну с нуля в образе бедного писателя на иждивении у своего «благодетеля». От Фредерика Ланберга останется текущий счет, который надо пополнять, кредитка, голос по телефону и статьи по факсу — вроде, почву я уже подготовил… Кто вообще заметит мое отсутствие? Даже если я откажусь от интервью и командировок для приложения «Ливр», меня вряд ли уволят, это им слишком дорого обойдется. В нашем мире, где человек стоит не дороже своего выходного пособия, я с двадцатилетним стажем не пропаду. И ничего не потеряю, кроме авторитета. Да, мне перестанут угождать, меня перестанут бояться, ну и плевать.
Тщетно ищу, что могло бы отвратить от меня от желания покончить с существованием Ланберга. Доминик больше не держит меня здесь; там, в доме через дорогу, она словно оживает для меня и кажется мне обновленной. Из Мулен я выбегаю радостно, а назад бреду нехотя, но покорно. Раньше я ютился под чужими крышами, чтил истинных хозяев, старался ничего не трогать, не менять, ценил все, что меня окружало, смотрел, как все стареет, приходит в еще больший беспорядок, трескается и ветшает, но нигде не чувствовал себя дома. А студия наконец-то стала моим настоящим домом. Хотя, что значит — моим? Я не хозяин этой квартиры, и снята она под вымышленным именем. Однако ощущение, что у меня появился дом, очень много для меня значит, и хотя я постоянно твержу, что эти мои тридцать шесть квадратных метров — всего лишь театральная декорация, но она настолько связана с моими печалями, амбициями, желаниями, которые я подавил в себе, задвинул куда-то в подкорку, с тех пор как перестал писать, короче, она настолько соответствует всему тому, чем я не осмеливался быть, что, наверное, в конце концов смогу, находясь в ней, осознать свое прошлое, понять, что предначертано мне судьбой, и это изменит мое лицо получше бритвы.
Я облокачиваюсь на раковину и прислоняюсь лбом к прохладе зеркала, чтобы вернуться с небес на землю. Все это плоды моего воображения, я знаю. Нельзя убежать от того, кого ты собой представляешь. Я именно тот, кем меня считают, и не более. Моя богатая индивидуальность — лишь отражение в чужих глазах, а одиночество, которым я пытался отгородиться от них, лишь помогало мне закрыть на все глаза. Ришар Глен — обман. Синтетический образ, в который никто не поверит.
Сколько ни гоню я прочь надуманный образ, он немедленно возвращается, и вот уже из зеркала, несмотря на все мои здравые рассуждения и благие намерения, на меня смотрит прообраз моего виртуального героя, тот самый писатель без романа и без усов, у которого завтра вечером свидание с незнакомкой в баре «У Гарри». Я прекрасно понимаю, что невозможно даже наточенной бритвой убрать с лица годы компромиссов и топтания на месте. Но меня не страшит, что я буду выглядеть смешным или наивным, меня волнует, что я могу оказаться предателем. В восемнадцать лет я вырастил над губой пушок не для того, чтобы изменить свою внешность, казаться взрослым и стильным, а чтобы постараться быть похожим на приемного отца. Восхищение и благодарность вылились у меня в бледную копию аккуратных седых усов, придававших ему столько шарма в сочетании с лавандовыми глазами, бархатистым басом, безудержной фантазией, умением красиво жить, внезапными вспышками гнева и непреклонной ревнивой любовью, с которой он относился к некоторым операм. Из всего этого арсенала я мог обзавестись только усами.
Сбрить сегодня эти усы, где я храню для себя то, что осталось от него, воспоминание о том, как он наводил красоту вот этими ножничками и вермелевыми щипцами, которые он мне подарил, — это мучительнее разрыва, это предательство. Больше всего я всегда страдаю от самых незначительных деталей. Таких, как лилии с обрезанными тычинками. Как духи моей жены, которые снимают с производства. Как ее волосы на расческе. Как уже ненужные вермелевые щипцы. Кто может утверждать, что копируя движения, наследуя привычки, вдыхая запахи любимых нами людей, мы тем самым не продлеваем их духовную жизнь на земле? Я невольно улыбаюсь. Сэр Дэвид Ланберг оставил по себе богатейшую дискографию, почти как Караян, а мне не дает покоя набор для ухода за усами.
А еще этот вечер в семьдесят восьмом году в веронском амфитеатре, его любимая опера «Трубадур», которую он яростно защищал от насмешек пуристов, и когда снобы говорили ему, что либретто — полная чушь, а партитура слишком сложна, напоминал им историю светской дамы, которая посетовала при Малере: «Ах, представьте, какой ужас, я совсем не люблю Брамса», и тот не преминул ее утешить: «Не волнуйтесь так, мадам, Брамсу это все равно!» Те страшно обижались. А вот чего Дэвид им не рассказывал, это как в Бухенвальде провел два дня голым, в снегу, в пятнадцатиградусный мороз, и выжил, благодаря Верди, напевая вполголоса «Трубадура». «Пробовал еще «Цирюльника» и «Волшебную флейту», но они так не грели. Сила Верди — это земля, плоть, беспредельное отчаяние в бешеном ритме, которое воспевает смерть и побеждает ее». Он рассказывал мне об этом часами в море у Кап-Ферра, под гул лодочного мотора, рассказывал так страстно, так просто, что я, казалось, начинал понимать этот язык, хоть и не говорил на нем. Помню, как, переживая «голландский период», я заперся в Эсклимоне с Аристофаном и случайными девицами и ничего не знал ни о нем, ни о ней. Но только получил от него приглашение на Веронский фестиваль, только прочитал записку со словами «Приезжай. У меня отличный состав исполнителей и оркестр. Такого больше не будет», как прилетел на первом же самолете. Когда он увидел меня в ложе после года разлуки, я сразу почувствовал, что он скучал по мне, хотя и никак это не проявлял. Он раскрыл мне объятия и взволнованно прошептал: «Сын». Прижимая меня к своей груди, он застеснялся и поправился: «Мои усы. Ты оставил мои усы!» Я ничего не ответил. Я не очень понимал, почему я должен был бриться из-за того, что его дочь бросила меня.
Что кроется за этим усатым лицом, за семейной традицией, за позаимствованной у него же походкой? Что я найду под усами? Сходство с биологическим отцом, непривычную мягкость, горькую складку чересчур тонких губ? А может, у меня совсем невыразительное замкнутое лицо, как на детских фотографиях?