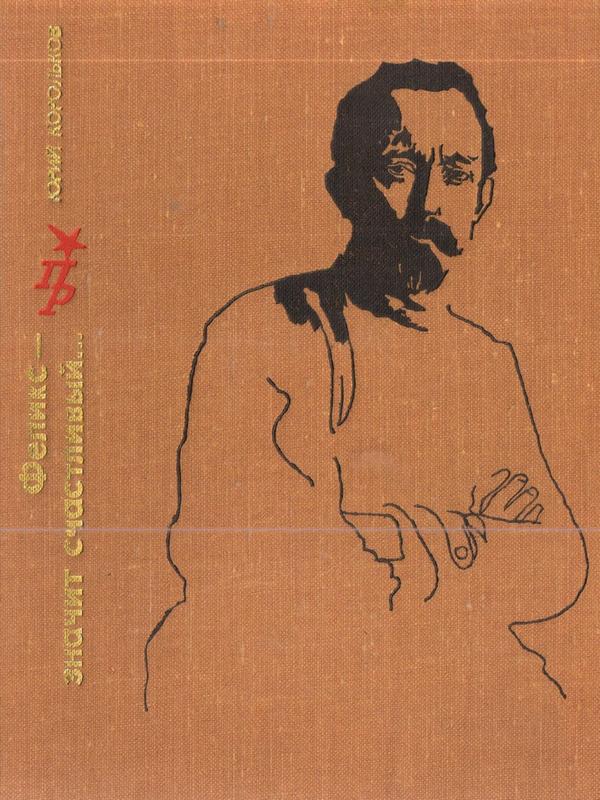Книга Рабочий день - Александр Иванович Астраханцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лычкин молча протянул ему мятый бумажный пакетик; Красавин быстро сунул его в карман.
— Ну что, Иван Иванович, давайте оставим все как есть до завтра, — снова земельтешил Красавин перед Хохряковым, — я вот что предлагаю, — он отвел его на несколько шагов и заговорил на ухо. — Я оставляю здесь начальника участка, вы оставите Володю, пусть они занимаются: проверят все квартиры, сантехнику, приборы, подключение, составят перечень дефектов, а мы с вами поедемте пообедаем.
— Я обедать не поеду, — набычился Хохряков.
— Но ведь обедать надо, не обедать вредно. Поедем Иван Иванович! Посидим, по цыпленочку съедим в «Востоке» — вы ж любите!
— Не поеду, — рявкнул Хохряков.
— Ну хорошо, я вас только на машине подвезу, куда вам надо.
У Хохрякова машины не было, и он не стал упираться. В машину сели еще двое: тот самый Лычкин, который принес деньги, и приятель Красавина, веселый человек по фамилии Алабухов.
Сели и поехали и, пока ехали, уговорили-таки Ивана Ивановича пообедать с ними. В ресторан «Восток» вошли все вместе. Лычкин побежал вперед — заказывать столик на четверых.
II
Красавин, на правах завсегдатая и хозяина положения, позвал официантку, погладил по руке, сказал:
— Здравствуй, моя хорошая! У нас традиционное оперативное торжество, так ты уж нам, Галочка, сообрази побыстрее, а что и в каких размерах, ты знаешь.
Красавин хищно подмигнул коллегам. Скоро на столе появилась заливная осетрина, зелень, графин водки. Выпили, закусили. Красавин, чтобы с чего-то начать разговор, стал жаловаться на судьбу строителя: проклятая жизнь, ни дня покоя, вечера заняты, выходные тоже, гони и гони, пока на кладбище не отволокут, сколько уж их перехоронил, до пенсии не дожили, сковырнулись на ходу, а кому это надо, строить бы по-человечески, чтоб действительно на радость людям, да только как тут построишь, если всякие Затулины «давай-давай» — жмут, а Затулиных, естественно, еще кто-то... Рассуждая таким образом, Красавин одной рукой жестикулировал, а другой, словно фокусник, успевал быстро и незаметно наполнять рюмки.
— Вот послушайте мой анекдот, — сказал веселый человек по фамилии Алабухов. Начальника стройуправления Реута из Проммашстроя знаете? Ну, маленький такой, толстый, в берете ходит, мокрая сигарета всегда на губе висит. Недавно вернулся с юга, из отпуска, так с ним такой юмор был! Отпуск кончается, билет в кармане, а наличности — тю-тю, промотался вдребадан, сами понимаете — юг. За три дня до отлета отбивает SOS на работу: «Шлите сто». Три дня проходят, как один, — ни ответа ни привета, глухо, как в танке. Он с трояком в кармане садится в самолет: как-нибудь, мол, перекантуюсь. А самолет через Москву. В Москве из аэропорта в аэропорт переехал, бутылку пива выпил — нету трояка. И вдруг: задержка по метеоусловиям. Час, второй, полсуток, сутки. А жрать и курить хочется, и ни одной знакомой души вокруг. Ну, сигаретку стрельнуть можно, а булку, простите? Начал наш Реут таскать пустые бутылки со столов в буфете и сдавать. А только тамошние буфетчицы — вырвиглаз, у них за так просто бутылку не подберешь, у них весь цикл рассчитан: продают со стоимостью посуды, а как принимать — мелочи нет или некогда, ну а я или вот ты — будем ждать, что ли? Да плюнем и пойдем. Уборщица быстренько собирает и уносит, потому что бичи шныряют, тоже норовят бутылку утянуть. Ну, уборщица нашего Реута приняла за бича, накрыла и давай оттягивать. Но — заметьте почерк кадрового строителя! — Реут столковался с ней! Он сдавал ей бутылки за полцены, за шесть копеек, но зато он завалил ее бутылками, он обшарил весь вокзал, принялся за привокзальную площадь. Как увидит бутылу — тяп, и под пиджак. Заметьте, за первый час он заработал три рубля — начальником бы он столько не заработал!
— Гхэ-э-э, — хохотал, хрипел Хохряков, трясся жирным телом, вытирал голубым платочком слезы. — Знаю Реута. Как приедет ко мне... обязательно... спрошу... Гхэ‑э‑э.
— Только не говорите, Иван Иванович, что я рассказал. Это мне Баранов рассказал, — продолжал Алабухов. — «Сижу, — говорит, — на этот же рейс, из командировки, деньги на подсосе, познакомился с женщиной, у нее, заметил на всякий случай, полная сумка снеди, сидим, мило шутим — бах, ее рейс объявили. Пошел, — говорит, — с горя в буфет проедать последнюю мелочь, смотрю — Реут! Бросается на грудь: «Земляк, друг, как я ряд! Пойдем в ресторан!» Ну, думаю, — говорит Баранов, — повезло, идем чуть не в обнимку, боимся упустить друг друга». И что-то к ним швейцар прицепился, а у швейцара глаз наметанный. Они показывают один на другого — дескать, он меня приглашает, — да вдруг как хлопнут себя по лбу да давай хохотать! Скинулись, пошли в буфет...
Незаметно графин опустел — и появился новый; кончилась заливная осетрина — появились цыплята табака.
Только на миг задумался и нахмурился Хохряков, заметив это. Знал он свою слабость: если уж перепало за воротник, остановиться трудно. Он не алкоголик — нет, нет! — но удержу не знает, это правда. И любит-то не столько саму ее, проклятую, сколько все, что сопутствует: обильную закуску, шумное застолье. В последнее время такая жизнь опротивела ему, давила душу, беспокоила неясным страхом. Его окружили молодые, хищные, как волки, люди, пользуются его слабостью, и он уже не может противиться им, опускается, тонет в грязи, а они карабкаются ему на плечи и топят, топят его. Но вспыхивало это ощущение опасности именно в опьяневшем мозгу, вспыхивало и быстро гасло. Привычка брала свое, гнула его, бесовски заманивала, самым натуральным образом бесовски — маленький-маленький, тот уже маячил иногда перед ним где-то в дальних темных углах с крохотной рюмочкой в лапке и манил коготком к себе. Оторопь брала Хохрякова — грубый реалист, он презирал всякий бред и усилием воли брезгливо стряхивал его, как липкую паутину.
Только на миг задумался и нахмурился он и уже опять держит полную рюмку. Алабухов поднимает свою и провозглашает:
— За строителей, которые в огне не горят и в воде не тонут!
Хохряков глотает горький жидкий ком, который быстро и горячо прокатывается вниз. Он берет цыпленка, капающего жиром,