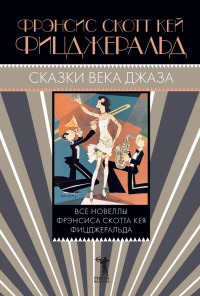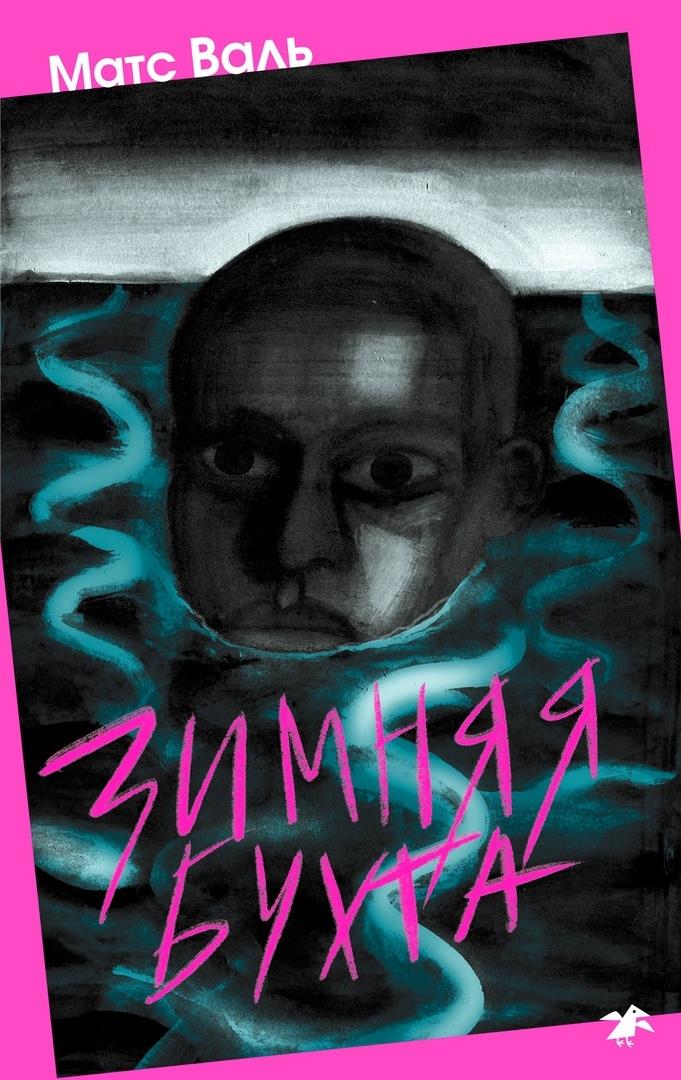Книга Немецкая осень - Стиг Дагерман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нам вообще много чего удалось избежать: мы не знаем, каково это, когда за дверью раздается внезапный топот сапог, потом стук, и чужие солдаты с грубыми голосами вытаскивают тебя из постели и волокут к ждущим у подъезда машинам. Мы не знаем, каково это, когда чья-то рука грубо толкает тебя в тесную камеру с тяжелыми дверями и толстыми стенами, каково это, когда стоишь в толпе в пыточной, когда видишь, как лишаются ногтей и на спины обрушиваются удары хлыста. Никого из нас, ни одного из нас не уводили в серую предрассветную дымку, не ставили к стене, не отдавали приказ расстрельной команде. Может быть, мы всего лишь хладнокровно читали сообщения о страданиях других, равнодушно просматривали газетные заметки и думали: ну и жуть, но меня-то это все не касается, это ведь не про нас.
Да, не про вас — но все-таки и про вас тоже. Это за вами гонятся вооруженные полицейские по улицам Осло, ваша жизнь стоит на кону, за вашим домом ведется наблюдение. За вами, ваша, за вашим… Почему? Да потому, что у вас есть сердце, ведь есть же, правда? Потому что вы молоды, ведь так? И потому что скоро настанет рассвет, верно? Именно ради этого, ради сердца, молодости и света мы проживаем те же гонения и всей душой желаем, чтобы скорее наступил день, когда загорятся сердца, когда по всему миру с одинаковой силой загорятся пылающие сердца. В этот день поэт наконец найдет пылающие сердца, над которыми не властно сомнение и которые встречают поражения с «улыбкой до конца» и потому неизбежно победят. Этот день настанет, и очень скоро. Мы это знаем. Мы чувствуем это сердцем. Своими пылающими сердцами.
Писатель и совесть
(1945)
Писатель — поэт или прозаик — сидит за письменным столом. Разумеется, тусклая лампа освещает клавиши его пишущей машинки, медную чернильницу и стопки снежно-белых листов бумаги. Хорошо бы, чтобы за окном шел проливной дождь или щебетали птицы в роще, хотя в целом суровый зимний вечер с метелью и завываниями ветра тоже подойдет.
И тогда писателю вдруг может подуматься, что есть нечто за пределами его самого: оно кричит, завывает или шепчет — громкость в данном случае совершенно не важна, — главное, что оно хочет стать осязаемым, хочет стать сущим, овеществиться. Писателю наверняка покажется, что это нечто куда больше его самого. Возможно, даже комната исчезнет. В это мгновение масштаб этого нечто может казаться просто гигантским.
Если писатель не хочет рисковать стать жертвой бессилия, переходящего все возможные границы и тесно связанного с ощущением упущенной возможности, какой бы малой она ни была, он обязательно попытается это нечто уловить. Он прекрасно понимает, что ему необходимо это сделать, потому что масштабы приводят его в ужас, а смирение с собственным бессилием вызывает муки совести или в лучшем случае головную боль.
Безусловно, какой-то определенный метод тут предложить невозможно. Это ведь не измеримый физический процесс, не работа землемера. То, что настолько больше писателя, может в разных случаях принимать и разные формы. Иногда оно похоже на воздушный шарик, который надо поймать за веревочку и потянуть вниз, иногда — на руку, вцепившуюся в горло, которую нужно любой ценой оторвать от себя, или, что легко можно себе представить, на текст под калькой, который нужно очень быстро скопировать.
И вот, когда автор готов, когда все просвечивающие в полутьме строки заполнены словами, он вдруг поражается тому, насколько уменьшился масштаб. Все будто съежилось, и поначалу это вызывает у него легкое разочарование. Разумеется, он был готов к тому, что текст — или результат копирования — окажется другим, микроскопическим по сравнению с оригинальным переживанием. Кроме того, он прекрасно понимает, что для сохранения душевного равновесия необходимо привести пропорции к нормальным, и, были б силы, он вообще оставил бы эту жалкую затею с копированием, но на это у него не хватило ни сил, ни смелости.
Но теперь писатель стоит перед свершившимся фактом: он — более или менее добровольно — создал нечто определенное и законченное. Теперь он может разве что изменить наклон отдельных линий, но не более того. Может заменить «птицу» на «дрозда», «скамейку» на «кресло-качалку» — вот, пожалуй, и все, арсенал исчерпан.
У него отпала всякая потребность защищаться. Священный долг выполнен. Материал победил его. Теперь может начаться настоящий абсурд — он может даже возгордиться собственным поражением. Ведь именно теперь он полностью уверен в том, что скопированный образ по всем параметрам равен изначальному переживанию. Другими словами, он доволен собой и испытывает настоятельную потребность рассказать об этом всему миру или, по крайней мере, той части мира, на которую, по его мнению, он может повлиять: что ж, пожалуйста! Вот изначальное переживание. Как же красиво контуры образа смыкаются вокруг этой огромной тени!
Вполне вероятно, что одни поддержат его, ведь его мир действительно невелик, к тому же он всегда может рассчитывать на то, что кто-нибудь будет на его стороне из притворной верности, известной как дружба, других отпугнет сам разговор об изначальном переживании, потому что они соприкасаются только с чужими переживаниями, да и то через вторые, третьи или четвертые руки, кто-то увидит его насквозь, но оставит все при себе, потому что поймет, что писатель и сам в это поверил, а кто-то просто промолчит, потому что сам, независимо от писателя, пришел к выводу, что у текста, как у бывшего в употреблении опосредованного переживания, действительно есть некоторые достоинства.
Возможно, в силу всего этого писателя постепенно охватит нечто вроде гордыни. Высокомерие, не лишенное, впрочем, некоторого очарования, поскольку оно подобно