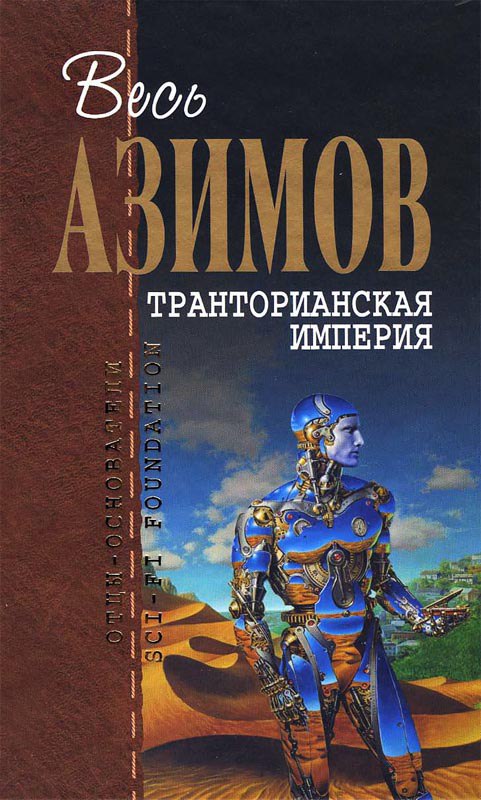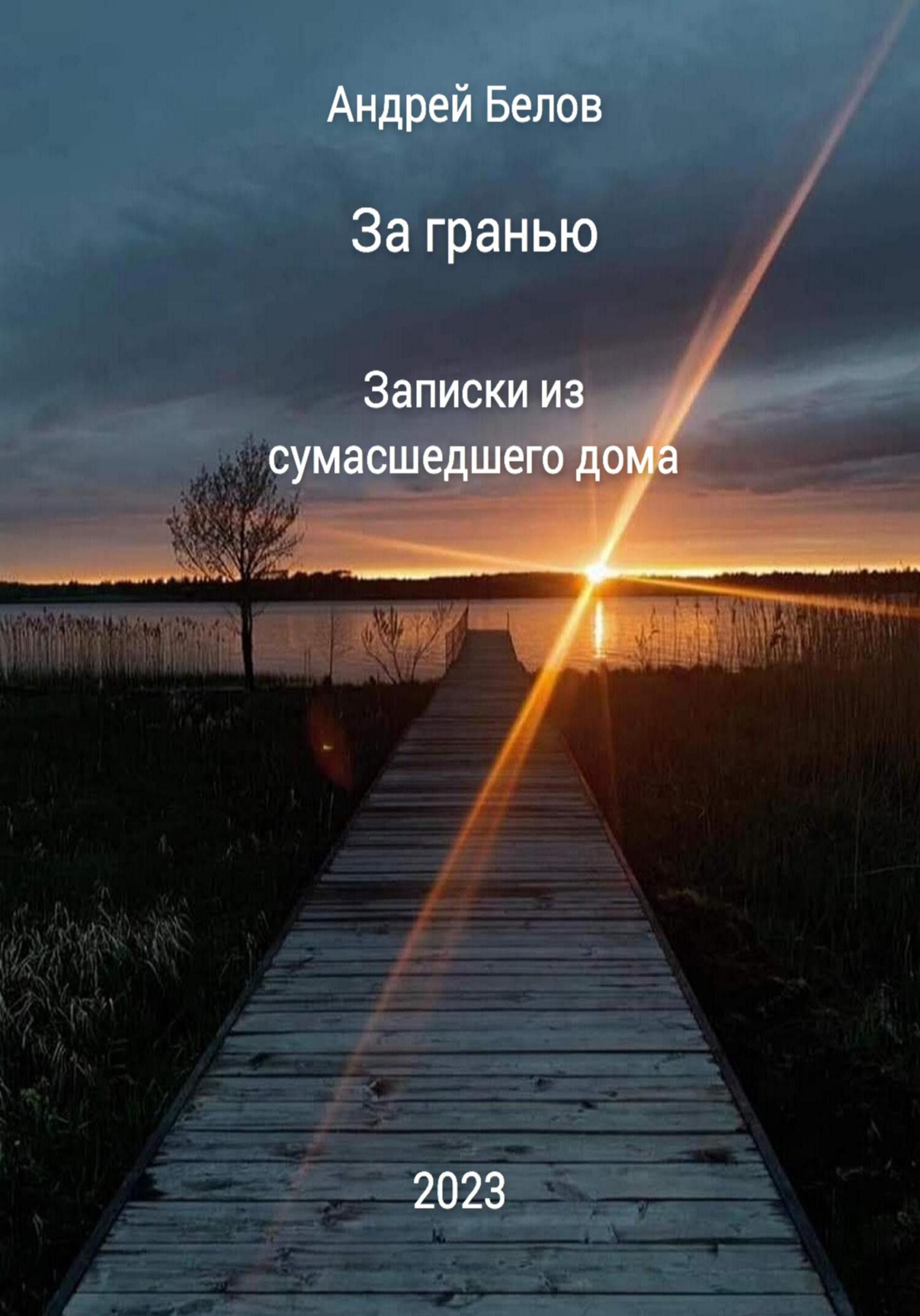кухню он любил, тут всегда можно было найти что-нибудь интересное – если не в холодильнике, что время от времени выключался сам по себе, то в старом бабушкином столе, где Коля держал сладости и снотворное. А еще тут стояли чемоданы с журналами, бумажные коробки с Колиными носками и пакеты из супермаркетов. Окно было занавешено тяжёлым бархатом, похожим на флаг, это делало беспорядок таинственным, и Марио вошёл сюда, полный предчувствий – тайн и загадок. А войдя, понял: в ванне, повернувшись к Марио спиной, стояла юная незнакомка и безуспешно пыталась разобраться с горячей водой. Ширма была чуть отодвинута, незнакомка гостей, похоже, не ждала. Марио замер, сделал полшага назад, отступая за двери, и снова посмотрел. Свет пробивался сквозь дыры в бархате, выхватывая из сумерек цвета и оттенки. На холодильнике играло радио, крутили что-то надрывное, два хриплых женских голоса жаловались на тяжёлую судьбу девушки из небольшого портового городка, рано познавшей печаль и разочарование. Незнакомка в ванне даже не услышала, что кто-то вошел, стояла на цыпочках, пытаясь дотянуться до никелированной итальянской насадки, перемотанной Колей синей изоляционной лентой, и покачивалась, слушая грустных женщин, как будто в песне пелось о ней самой. В городе, где я жила, – завела первая женщина, – не было никаких развлечений, лишь ежедневное бухалово и вечный трах в парке культуры, белые дымы заводов, черные глаза рабочих и злодейские малины за ночным лиманом. Да-да, – подпевала ей другая женщина, – никаких аттракционов, только южное вино и любовь под выгоревшей накипью зелени, и черные глаза молотобойцев, и свежая малина воскресных базаров. Марио выглядывал, стараясь лучше разглядеть незнакомку. Была она невысокой и тонкой, с длинными тёмными волосами, тяжёлыми от воды, приподнималась на пальцах, напрягая мышцы, но всё равно никак не могла достать, только горько покачивалась, делая и без того не очень весёлую песню совсем безнадёжной. Все в городке считали меня курвой, – плакала первая женщина в радио, – все презирали меня за крашеные волосы, за золотую цепочку на беззащитной шее, и каждый фраер старался залезть под юбку, коснуться моего бедра в темноте кинозала. Да-да, – подтягивала вторая, – чёрные нитки в её волосах тонко светились в темноте кинозала, и расстроенные мужчины провожали её поздними часами, оливковыми вечерами, мечтательно засматриваясь, как тёплой бронзой отсвечивает её кожа. Но они любили её, – добавляла вторая женщина, как что-то очень важное, – за её легкомысленность и беззаботность. Марио слушал и смотрел. Икры у незнакомки стройные и невесомые, бёдра – мягкие, кожа – тёмная, такая, словно она много работала на виноградниках, много ходила под солнцем, не прячась от ветра и дождя. А первая женщина продолжала: как-то я встретила его на праздничной площади нашего городка. Был он настоящим гангстером, обчищал лохов в трамваях, никогда не расставался со своей финкой, перестрелки, притоны, все дела, и ему одному отдала я сердце, такая вот любовь. Но он покинул меня, пошёл по этапу, оставив меня лицом к лицу с жестокой реальностью. Любовь-любовь, – подхватывала вторая, – делала праздничными её дни, когда с утра она выбегала на площадь, и мужчины бились на ножах за право купить ей букет полевых цветов. И только один открыл её сердце – радостное, как велосипедный замок, и вынул оттуда тайную пружину, лишив её голоса, забрав её радость. И где он теперь, какими трамваями добирается сейчас домой, почему не придёт и не заберет её? Она перекинула волосы себе на груди, и Марио рассмотрел несколько едва заметных родинок на её спине, разглядел её нежные позвонки, остро выступавшие из-под кожи, как озёрные камни, выдаваясь наружу, неся на себе её пушиный вес, разглядел её совсем детские лопатки, не мог отвести от них глаз, заворожённо глядя, как они перекатываются, как замирают, разглядел её ключицы, её шею. И с тех пор, – напомнила о себе первая, печальная женщина, – я прихожу каждый вечер в этот бар, крышуемый мусарнёй, и продаю свою любовь грузчикам и почтальонам – всем, кто соглашается заплатить за неё хоть что-то. Однако ничто в этой жизни не даётся просто так, за всё надо платить. И оплачивая сладкую любовь, мы обыкновенно взамен получаем одни лишь следы на воде, одну лишь голубую краску, размазанную по лицу. И оплакивая любовь, – тут-таки поддержала её другая, – мы платим благодарностью всем почтальонам, которые не приносят нам плохих новостей. За всё нужно платить, за каждый вечер и за каждую ночь, и наши слёзы всего лишь синяя краска воздуха, голубые следы на воде, золото нашей радости, серебро нашего молчания. Песня враз оборвалась, холодильник дёрнулся и замер, незнакомка резко повернулась и посмотрела ему в глаза.
Вначале его бросило в жар, потом поледенели руки, потом он почувствовал, что вообще не ощущает своего тела. А незнакомка уже улыбалась ему, как давнему знакомому, и, найдя тёплое белое полотенце, небрежно прикрылась им, ничего на самом деле не пряча, ступила на мокрый скрипучий паркет, подошла к Марио и легко подала руку.
– Привет, – сказала, отбрасывая за спину волосы. – Ты Марио?
– Марик, – вспомнил он собственное имя.
– А я Настя, – пояснила она, – дочка тёти Зины.
В больничном коридоре Марио должен был подождать: в палате врач как раз объясняла Коле, что лекарства надо пить. Коля недовольно возражал, даже пытался откупиться, предлагал врачу деньги, лишь бы та его отпустила. Врач обижалась, объясняла Коле, что здесь его никто не удерживает, и лечение – дело добровольное, если ты, конечно, не шизофреник. Тогда обижался Коля, кричал, что за те полдня, что они торгуются, он успел бы толкнуть полфуры бананов. Врач начинала плакать, Коля просил прощения и пытался засунуть ей деньги в карман халата, врач требовала, чтобы он лежал и не бегал за ней с капельницей в руках. В конце концов она ушла, бросив в коридоре на Марио заплаканный взгляд. Марио вошёл в палату. Коля лежал возле окна в белых мятых брюках и несвежей сорочке. Под кроватью валялись дорогие грязные туфли. Вид утомлённый, лицо его, и без того отёчное, после вчерашнего празднования отекло ещё больше и приобрело лимонный оттенок. Коля тугим животом и коротковатыми ногами, всем своим обликом напоминал племяннику отрицательного персонажа какого-нибудь индийского фильма. В индийском кино такие герои обычно злоупотребляют властью. И терпением зрителей. Коля и теперь с иголкой в вене вызывал не так сочувствие, как страх: а что как выживет и начнёт мстить? В палате с ним лежало ещё трое: один интеллигентный, в очках, лежал как раз напротив Коли, читал газеты, грыз печенье; около него работяга, явно с завода – руки в мазуте, под глазами мешки, на прикроватном столике